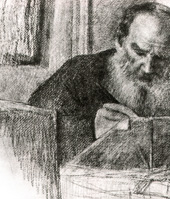
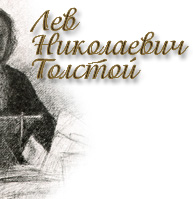

IV
Один из очерков Булгакова носит заглавие "Черты великого образа". Этими словами можно было бы озаглавить все его воспоминания. Ценность их в том, что они воссоздают образ Толстого не односторонне, однозначно, а во всей его сложности и противоречивости.
В мемуарной литературе о Толстом имеются произведения, в которых он на старости лет предстает успокоенным, умиротворенным "апостолом любви", для которого все проблемы человечества решены и никаких сомнений больше не существует. В других мемуарах утверждается его мнимая цельность и религиозная ортодоксальность, исключающие всякие новые идеи, новые поиски и подходы к ранее решенным вопросам.
По-другому характеризует Толстого В. И. Ленин. Горячо любя и высоко ценя его как гениального художника, давшего "не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы"*, Ленин говорит о "кричащих" противоречиях мысли писателя, отражавших условия, в которые была поставлена русская жизнь последней трети XIX века. В статьях Ленина Толстой предстает одновременно гениальным и наивным, прозорливым и заблуждающимся, ищущим и сомневающимся, утверждающим и колеблющимся, т. е. истинно живым, развивающимся художником и мыслителем, стремящимся идти в ногу с веком, во многом его опережающим, но в чем-то и неизбежно отстающим от него.
* (Ленин В. И., т. 17, с. 209.)
Толстой, по словам Ленина, - горячий протестант, страстный обличитель, великий критик господствующего несправедливого строя. И вместе с тем - проповедник учения, которое отражает сознание наивного патриархального крестьянина. "Борьба с крепостническим и полицейским государством, с монархией превращалась у него в отрицание политики, приводила к учению о "непротивлении злу", привела к полному отстранению от революционной борьбы масс 1905-1907 гг."*.
* (Ленин В. И., т. 20, с. 21.)
Толстой ведет решительную борьбу с казенной церковью, разоблачая ее как служанку царизма, как темную силу, которая держит народные массы в повиновении. Обличению церкви посвящены его многие статьи и трактаты - "Соединение и перевод четырех Евангелий", "Критика догматического богословия", "Исповедь", "В чем моя вера", "О жизни" и др. Но, по Ленину, борьба с казенной церковью совмещается у Толстого "с проповедью новой, очищенной религии, то есть нового, очищенного, утонченного яда для угнетенных масс"*.
* (Ленин В. И., т. 20, с. 21.)
Толстой непримиримо и страстно борется против угнетения народных масс фабрикантами и помещиками. В этом он не знает ни устали, ни компромиссов. Но его "обличение капитализма и бедствий, причиняемых им массам, совмещалось с совершенно апатичным отношением к той всемирной освободительной борьбе, которую ведет международный социалистический пролетариат"*.
* (Ленин В. И., т. 20, с. 21.)
Анализируя учение Толстого в целом, Ленин говорит, что в нем отразилось "великое народное море, взволновавшееся до самых глубин, со всеми своими слабостями и всеми сильными своими сторонами"*. И это убедительно подтверждается всеми, кто правдиво описывал жизнь Толстого, в том числе достоверными мемуарами Булгакова.
* (Ленин В. И., т. 20, с. 71.)
Прежде всего автор воспоминаний подчеркивает разносторонность интересов Толстого, его отзывчивость на все живое, современное. "Интерес и восприимчивость Льва Николаевича ко всему окружающему были удивительны. Он знал все, что пишется в газетах, следил за новостями русской и иностранной литературы, переписывался с писателями, с единомышленниками и с лицами, ему совершенно не известными, принимал множество посетителей, знал всех крестьян в Ясной Поляне и входил во все мелочи их быта, умел каждому в доме сказать что-нибудь нужное и сердечное".
Художник огромного диапазона, мыслитель, который критически переосмысливал все современные ему явления жизни, он не мог не относиться критически и к самому себе. И мы это видим на примере того, как он в конце жизни снова и снова продумывал собственное учение.
В дневнике Толстого за полгода до его кончины мы читаем: "Страшно сказать, но что же делать, если это так, а именно, что со всем желанием жить только для души, для бога, перед многими и многими вопросами остаешься в сомнении, в нерешительности" (запись от 13 мая 1910 г.)*. Это самоощущение весьма характерно для Толстого последних лет.
* (Толстой Л. Н., т. 58, с. 51.)
Нет, Толстой в эти дни не отрекается от своего учения, - он утверждает его с еще большей силой и страстью. Снова и снова он возвращается к своим тысячу раз продуманным идеям, подкрепляя их все новыми и, как ему кажется, более вескими и неопровержимыми аргументами. И все ж, предельно честный с самим собой, он не может совладать и с сомнениями, посещающими его все чаще и чаще. А иногда его живые порывы, непосредственная реакция на явления и события, не совпадают с его ортодоксальной метафизической доктриной.
Так, Толстой в десятках статей и писем убежденно отстаивает идею непротивления злу насилием как единственно плодотворный путь борьбы за социальное переустройство общества. А сам каждый раз воодушевляется и радуется, когда слышит о разгорающейся в стране крестьянской "жакерии", о захвате крестьянами помещичьих земель, о стачках на фабриках и заводах. По слову Короленко, Толстой легко заражается боевыми настроениями масс и горячо, от всего сердца, сочувствует им в борьбе за освобождение.
Десятки статей и сотни писем посвящены Толстым утверждению идеи бога, - "хозяина", по отношению к которому человек - лишь "работник", должный выполнить свое призвание на земле. "Бог" Толстого - совсем не тот, которого проповедует казенная церковь. Церковного бога, с его "таинствами" и мистикой, Толстой решительно отвергает, за что "жандармы во Христе" (по выражению В. И. Ленина) отлучили его от церкви. На языке Толстого бог - это синоним всеобщей любви, олицетворение высшей совести, которой должен руководствоваться человек. Вместе с тем Толстой утверждает превосходство религиозного мышления над научным, ставит веру выше рационального знания. И в этом - одно из коренных противоречий его сознания.
Толстой со всей силой страсти отстаивает свое учение о боге. Но вот под конец жизни он однажды записывает в дневнике: "Ночью и поутру нашло, кажется, никогда не бывшее прежде состояние холодности, сомнения во всем, главное в боге, в верности понимания смысла жизни. Я не верил себе, но не мог вызвать того сознания, которым жил и живу" (запись от 2 сентября 1909 г.)*.
* (Толстой Л. Н., т. 57, с. 131.)
С неменьшей убежденностью Толстой отстаивает идею всеобщей любви, как единственное средство уничтожения социального зла. Доказательству правоты этой идеи он посвящает свои крупнейшие трактаты, десятки статей и сотни писем. Но, земной мыслитель, всегда стремившийся проверить истинность всех учений реальной жизнью, он в годы реакции бесстрашно признается самому себе: "Главное же, в чем я ошибся, то, что любовь делает свое дело и теперь в России с казнями, виселицами и пр." (запись от 13 февраля 1910 г.)*.
* (Толстой Л. Н., т. 57, с. 200.)
Таков Толстой. Высшая честность с самим собой, прямота и бесстрашие мысли, чуткое внимание к голосам самой жизни придают ему необычайную интеллектуальную широту, опровергающую представление о нем, как об узком мыслителе, фанатике единственной идеи. "Толстой, - пишет Булгаков, - не был ни педантом, ни сектантом, и в этом отношении выгодно отличался от многих своих последователей. Отношение его к каждому положению, к каждому собеседнику всегда было новое, неожиданное, не казенно-"толстовское".
К примеру, Толстой был горячим сторонником "хлебного труда", - крестьянскую работу он считал лучшим из человеческих занятий. И все же, в зависимости от конкретных обстоятельств, он многим обращавшимся к нему городским жителям советовал не покидать своих мест, а постараться и в городе наладить добрую жизнь. То же он советовал молодым людям, намеревавшимся покинуть деревню, отчий дом, чтобы в городе, в услужении господам, заново начинать свою "биографию". Толстой утверждал, что честную трудовую жизнь можно вести всюду, - и лучше всего в своей родной среде, поддерживая престарелых родителей, родных и близких. Особенно решительно Толстой отвергал намерение своих единомышленников сгруппироваться вокруг него, создать нечто вроде "толстовской" партии. Против этого он выступал не только потому, что отстранялся от всякой политической деятельности, но и потому, что видел непоследовательность, незначительность многих "единомышленников". К тому же он свое миропонимание не считал единственно правильным. До последнего дня в нем непрерывно шла неустанная работа мысли, поиски новых решений, тяжба с самим собой. Это отметили все близкие Толстого, в том числе и В. Ф. Булгаков.
© L-N-Tolstoy.ru 2010-2018
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://l-n-tolstoy.ru/ "Лев Николаевич Толстой"
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://l-n-tolstoy.ru/ "Лев Николаевич Толстой"