


1894
9 января.
С Женей хорошо. Хоть бы всегда так. Если не вижу его - хорошо, и когда вижу, то спокойно, просто и дружно. Иногда даже мне кажется, что у меня к нему никакой нет привязанности и приходится ощупать то место, в котором она находится, чтобы ее почувствовать.
15 января.
Вчера вечером приходил Женя. Я была нездорова и в халате лежала. Он в поднятом состоянии духа. Ему хочется борьбы и работы. Слышно, что на "Посредник" готовятся гонения, и это его возбуждает, и он с радостью этого ждет. Он давно на одной точке, ему это надоело и хочется вперед, но пока ничего еще не зовет.
Папа говорил на днях, что передо всеми нами пропасть и что неизбежно нам туда надо бросаться, даже не зная, переберемся ли мы на другой берег или погибнем в ней. Но мне это сравнение не нравится, по-моему, лестница Ильи лучше, потому что, перебравшись через пропасть, покажется, что что-то сделал и что можно успокоиться. Пока ходил вдоль берега, решался, бросился, перебрался на другой берег - тут живешь, а когда очутишься у цели - что же дальше? А на Ильиной лестнице видишь бесконечность наверх и бесконечность вниз. И вместе с этим проснулось отвратительное чувство ревности к Маше. Она повадилась в "Посредник". Я туда не ходила, пока у меня было это отвратительное чувство, и теперь вспоминаю о нем со стыдом, хотя и не могу быть уверенной в том, что оно не вернется. Да, хотя я и держусь за Женю и опираюсь на него, но он мне все-таки многое заслоняет. И кроме того еще, может быть, я затрудняю ему движение вперед.
19 января 1894.
Да, хоть и больно нестерпимо, до слез, но сегодня я совсем твердо решила с корнем вырвать эту привязанность. Она мешает ему жить. Она и мне мешает. То, что он дал мне, останется. Наша дружба сделала свое дело, а то, что теперь - лишнее и ненужное.
Он дал мне свой дневник за это последнее время, и я опять вижу, как я его путаю. Мы столько сил, мыслей, чувств тратим друг на друга, что, правда, как он пишет, это грешно. Он пишет: "Страшно то, чтобы отдаться дурной привязанности или ослепнуть от нее так, чтобы перестать отличать добро и зло". Этого нет, ни того, ни другого, но есть привязанность, которая захватила всю мою жизнь и его спутала, а этого не должно быть. Он пишет, что наша (женщин) задача не столько помогать мужчинам, сколько не мешать им и что этого мы можем и должны требовать от себя. Так вот я и освобождаю его от себя, но мне больно до слез. Как безнадежно пусто и одиноко будет еще долго, долго. Да, нет у меня почти ничего, что бы заменило мне привязанность людей. Мне трудно и жутко терять его, и страшно без его помощи идти дальше одной, но, должно быть, так следует. Вот, значит, есть что-то, во имя чего я этим жертвую. Сегодня я ясно вижу, что это так следует, но знаю вперед, какие будут впереди минуты сомнения - нужна ли была такая жертва? Минуты тоски, одиночества, возмущения.
Сегодня мы с ним так спокойно, дружно разговаривали, так далека я была от мысли, что сегодня я опять буду об этом тревожиться и плакать, но, кажется, следует так поступить, хотя бы это еще дороже стоило. Да неужели надо жить без привязанностей? И так беспощадно рвать те, которые существуют? Теперь я ничего о нем знать не буду, не буду видать, не буду переписываться, когда поеду в Ясную, и, может быть, буду мучиться тем, что Маша будет туда ходить. Мне тяжело то, что мне некому все это сказать, кто бы понял меня, по это то же самое; надо уметь жить одной.
Мне очень нездоровится - уже давно, и мне очень хочется сильной болезни. И умереть бы хорошо. Не надо позволять себе желать этого, так же как и не надо бояться ее.
Если бы я могла ничего от него не ждать и не требовать, только радоваться на него и учиться от него. Но я привыкла, и отчасти это он меня приучил, чувствовать его ласку и дружбу, и если я чувствую, что ее мало или что она может быть отнята у меня, я огорчаюсь и ропщу.
На днях несколько студентов позвали его беседовать с ними. Они ему задавали самые серьезные вопросы и с уважением слушали, что он отвечал им. Один только нашелся, который старался его запутать словами, и он говорит, что чуть не расплакался, так он был возбужден и высоко настроен. Я так его понимаю в этом. Меня это тоже взволновало, и я была горда им и рада тому, что есть люди, которые ставят такие серьезные вопросы, и тому, что есть люди, которые отвечают на них. Я давно уже так привыкла жить его жизнью вместе со своей, что путаю их, и эти два дня чувствовала, что что-то произошло, что было мне радостно, и не знала сразу - он или я в этом участвовали.
Теперь одна буду справляться, буду спотыкаться, падать, отчаиваться, течение, в котором я живу, будет уносить меня бог знает куда, но надо бога не забывать и он поможет мне.
Может быть, когда-нибудь опять нас жизнь сведет, и мы будем умнее и спокойнее относиться друг к другу. Я себе всегда представляю свою старость с ним и представляю себе его с белой бородой, совершенно ко мне равнодушным и безучастным, но почему-нибудь привязанным к тому же месту, как и я.
Жизнь еще длинная-длинная впереди.
Мне будет очень трудно. Я рада, что ему будет легче, чем мне, хотя если бы было и так же трудно, то все-таки следовало бы это сделать.
А может быть, и нет? Может быть, напрасно я так жестоко рву то, что само собой пришло бы в нормальное, спокойное состояние? В этом вопросе я не хочу обратиться к нему, чтобы он беспристрастно решил его. Да, теперь ни с какими вопросами обращаться к нему не придется, надо будет жить одной с богом. Только бы не забывать Его. А мне опять хочется кинуться к кому-нибудь и искать утешения и привязанности - к папа, к Вере. Не надо этого.
Я попрошу Машу не ходить в "Посредник". Она поймет, как это мне важно, потому что видит отчасти то, что во мне происходит. Я попрошу ее об этом для того, чтобы мне не было завидно и чтобы поменьше слышать о нем.
Итак, прощайте, мой дорогой друг, может быть на время.
Если бы я была лучше, может быть, нам не пришлось бы так круто разрывать и страдать от этого. Но я - плохая, слабая, и за все время я жалела о том, что могу только мешать вам жить. Простите меня. Обещайте мне одно - позвать меня, если я вам могу когда-нибудь быть нужной.
24 января 1894. Гриневка.
Вчера ночью приехали с папа сюда. Соня одна с детьми, Илья за границей*. Последний день прошлого дневника тот, в который я решила все порвать с Женей. Я ночь не спала, плакала и несколько раз записывала в свой дневник карандашом то, что испытывала, чтобы дать ему прочесть, а то я знала, что не буду в состоянии ничего ему сказать. Потушила свечу в 6 часов, когда уже начало рассветать, и заснула на два часа. Потом послала ему записку, чтобы он не уходил, а ждал бы меня. Он должен был утром пойти на почту, а потом прийти мне помочь с перспективой. Проснулась с болью в сердце: вся грудь болела, глаза горели и слабость была страшная. Я чувствовала, что каждую минуту могла плакать. Оделась, никого из своих не видала и пошла в "Посредник". Он открыл мне дверь и испуганно спросил: "Что такое? Что?" Я прошла в Пошину комнату и, делая большие усилия, чтобы не разреветься, сказала ему, что пришла сказать, чтобы он не приходил и что я больше не приду в "Посредник" и что мы оба давно знаем, что это нужно. Но тут уж я больше говорить не могла и стала реветь. Он очень переменился в лице, кажется, у него тоже слезы были на глазах, но мне было так стыдно, что он меня видит в таком состоянии, что я не смела смотреть на него. Он мне только сказал, что если разрыв был нужен, то это не так следовало сделать, но что если я нахожу это нужным, то так и будет. Я сказала, что если он что-нибудь подумает новое, то пусть скажет, и ушла к Вере. Все ей рассказала. Она не одобрила то, что я сделала. Сказала, что мы прежде поступали не так, а что этот разрыв ни к чему не поведет. Бранила меня, что я раньше к ней не пришла. Но я это сделала нарочно, чтобы она этому не помешала: я боялась, что мне кто-нибудь помешает или я сама раздумаю это сделать, и потому так спешила это сделать.
* (24 января 1894 г. Толстой записал в Дневнике: "Тяжесть от пустой, роскошной, лживой московской жизни и от тяжелых или скорее отсутствующих каких-либо отношений с женой особенно давила меня. Она не могла, потом не захотела понять, и этот грех ее мучает ее и меня, главное ее. Девочки хороши <...> Соня сноха осталась одна и мы решили ехать к ней" (т. 52, с. 108).)
От Веры я пошла в больницу за Москву-реку проведать Левина. Каждую минуту мне заволакивало глаза и мне хотелось плакать, так мне жалко было себя и его.
Я чувствовала, что этим ничего не могло прекратиться или измениться, но я чувствовала, что радости от нашего общения больше не будет, и было бесконечно грустно и больно.
Я себя упрекала в том, что я столько сил и энергии трачу на какое-то искусственное, ненужное горе и заставляю его делать то же самое, но это не помогало; оно было тут, огромное, безнадежное, захватившее всю мою душу и все мысли.
По дороге встретила трое похорон. В больнице видела больных, детей, потом прошла полем, рекой. У прорубей вороны прыгали и каркали, деревенские лохматые лошадки бежали запряженные в розвальни, все это меня умиротворило и успокоило. Особенно вид похорон и мысль о смерти. Улеглось возмущение и отчаяние, и осталась тихая, умиленная грусть. Пришла домой и рассказала обо всем Маше. Показала ей свои письма к Жене, про него рассказала, но не показала ни его письма, ни дневников, не имея на то права. Я рада, что Маша знает, хотя она не поняла этого так, как следует. Она примерила это на свой аршин, и мне это было неприятно, хотя она очень была ласкова и осторожна. Это тоже потому хорошо, что избавило от ревности к ней.
Днем поехала в Школу. В конке несколько раз должна была отвертываться к окну, потому что незаметно для себя слезы начинали ползти по щекам. В Школе хорошо рисовала и много разговаривала с товарищами. Как хорошо и свободно относиться ко всему, когда ничем не дорожишь внешним - ни мнением людей, ни их привязанностью, ни тщеславием. И это я чувствую все это время: я готова всем уступать, выслушивать все обидное, сказать правду, не боясь за это пострадать и т. п. Но это не дорого, потому что это происходит оттого, что все отвлечено привязанностью к человеку, а не к богу.
Придя из Школы, я зашла к Маше: она с папа проверяла Amiel'a*/sup>. Она мне сказала, что приходил Женя и принес "Тулон"**sup>, что она это положила ко мне на стол. Я знала, что там письмо. Так и вышло. Письма не буду выписывать. Оно у меня в Москве. Он пишет, что не понимает, почему наши отношения мне вредны, и, не понимая этого, не понимает, почему нужен был такой резкий разрыв. Говорит, что от него ничего не изменится, наша привязанность не прекратится, а только ляжет тяжесть на душу каждого и нам придется вести себя как недобрым - бояться встретиться, избегать напоминания друг о друге. Он пишет, что никогда не думал, что наши отношения целиком нехороши, и что он думает, что в них, напротив, было много хорошего.
*/sup> (Толстой познакомился с дневником швейцарского литератора философа А. Амиеля в октябре 1892 г. "Я был поражен значительностью и глубиною содержания, красотою изложения я, главное, искренностью этой книги",- пишет он в "Предисловии к Дневнику Амиеля" (т. 29, с. 209). "Читая ее, я отмечал из нее места, особенно поразившие меня. Дочь моя взялась перевести эти места". Предисловие было написано Толстым в декабре 1893 г., напечатано в январском номере "Северного вестника" за 1894 г. Отрывки из дневника Амиеля, переведенные М. Л. Толстой, печатались в № 1-7 того же журнала. В том же году вышли отдельной книгой в издательстве "Посредник".)
**sup> (Толстой работал над статьей "Христианство и патриотизм" с 8 октября 1893 г. до 17 марта 1894 г. (см. т. 39, с. 27-80). Поводом к ее написанию послужила шумиха, поднятая газетами в связи с заключением франко-русского союза и пышными празднествами в Тулоне по случаю прибытия туда в начале октября русской военной эскадры.)
Прочтя это письмо, я ничего не почувствовала, кроме радости, что разрыва между нами не будет. Да и радости было не много. Не знаю почему, я чувствовала себя одеревенелой, как будто все было все равно.
Кроме того, мне показалось, что письмо не совсем правдиво. Он себя бессознательно, из страха потерять меня, обманывает. Он пишет, что он открыто, сам перед собой называет то, что между нами,- дружбой. Не знаю, может быть. Но почему же тогда он не спит полночи из-за того, что я в своих дурацких сочинениях писала, как "она" с "ним" поцеловалась, и потом сказала ему, что эта повесть очень автобиографична. Он пишет, что ему жалко, что я себя унижаю и т. д., и потом пишет, что, слава богу, я ему развязала руки тем, что сказала, что этого не было. В другом месте он пишет, что невыносимо и грешно жить так, как он: ничего обо мне не знать, тревожиться, волноваться и бояться за меня. Может ли это быть дружба? Я себя постоянно спрашиваю про себя и проверяю себя. Я спрашиваю: вышла ли бы я за него замуж? - и без колебания и сомнения отвечаю: никогда, ни за что, ни к чему. Но желала бы всю жизнь прожить вместе. Моя ревность к Маше такая же, как по отношению к папа? Не знаю. Может ли быть ревность к другой женщине? Не знаю. Почему не было никогда ревности к его прошедшему, к Елене Александровне? Не знаю. Могла бы я так привязаться к женщине? Нет. Вот так и путаюсь. Часто думаю о том, что может произойти дальше, и боюсь, что хорошего не будет. Если бы только мы могли удовольствоваться дружескими, спокойными отношениями, быть всегда уверенными друг в друге, не искать общества друг друга без нужды, быть готовыми служить друг другу и, главное, не быть требовательными, то это было бы не только сносно, но прекрасно. Но боюсь, что мы не сумеем в этом удержаться.
Так вот, получивши это письмо от него, я ничего не могла ему путного ответить. Написала, что когда мысли будут яснее, напишу или приду, и что мне кажется, что он прав. На другой день все надеялась, что что-нибудь подумаю нового и найду какое-нибудь решение, но до вечера была такая же деревянная. До Школы забежала в "Посредник", но его не застала. Вечером только что вернулась из Школы, как и он вошел. У меня в комнате были гости, так что мы остались в столовой, тем более что мне подали обедать. Все время приходили и мешали нам говорить, но потом папа увел своих гостей наверх, и мы поговорили.
Я ему сказала, что мне хочется снять с себя ответственность и всю ее взвалить на его плечи. Я три раза хотела освободить его от себя и себя от него (хотя это я считала менее нужным): раз, когда он приехал из Ясной, я умышленно отдалялась от него, потому что испугалась зависимости друг от друга, второй раз после того, как прочла его дневник, и теперь в третий раз. Он не хочет разрубить эти узлы, так пусть несет всю ответственность за них. Я буду говорить ему, когда мне плохо и тяжело, но больше пытаться разрывать наших отношений не буду. Это я сказала ему, но теперь думаю, что это недобро и нехорошо. Я все-таки ответственна за себя и буду стараться быть доброй и мудрой, и думаю, что это и ему будет хорошо. Мы с ним говорили много и хорошо, спокойно. Сговорились видеться реже, не ждать друг друга, а то он говорит, что часто свои дела не делает и ждет меня, потому что знает, что во втором часу будет звонок, а ему давно уходить пора. Обещал не закрывать от меня свою душу, потому что я сказала, что отношения, как с Пошей, например, мне совсем не нужны и не дороги.
Потом мы опять очутились вдвоем наверху в гостиной и опять говорили душа в душу. Он говорит, что все-таки камушек еще остался на сердце. Да и у меня тоже, и сейчас он есть. Он говорит, что это мы несем наказание за радости. Он говорит: "Какие мы с вами большие выросли, а какие глупые". Милый человек, почему он мне так дорог?
В то время, как мы разговаривали, вошел папа и спросил, что мы заговариваем. Мне не было стыдно: я не думаю, чтобы это было дурно, но мы ему ничего не говорим, а кроме того, в эту минуту мы говорили о постороннем - он говорил мне об одном своем друге.
Совсем не помню конца этого вечера - как он ушел, виделись ли мы после этого разговора.
Мы сговорились па другой день не видаться, а в воскресенье - это вчера, день нашего отъезда,- я должна была зайти проститься с ним. Но на другой день утром он пришел, долго дожидался папа, но не дождался и ушел. Это меня встревожило: я сейчас же подумала, что он хотел с ним говорить, но не пошла и не написала ему в этот день.
В воскресенье встала рано, уложилась и пошла в "Посредник". Он открыл дверь. Я побыла одну минутку, сказала, чтобы он написал в среду, спросила, зачем приходил накануне. Он сказал, что просто ему жалко, что он с папа как будто раззнакомился, и неприятно, что вчера вышел как будто секрет, и что, может быть, он рассказал бы ему, о чем мы говорили. Я спросила, хочет ли он, чтобы я рассказала. Он ответил, чтобы я ответила, если меня папа спросит, а чтобы сама не начинала. Я думаю, что так и надо. Потом я сказала ему, чтобы он пришел проститься с папа. Он пошел, и я была рада, что они с папа дружно и хорошо говорили. Это тоже у меня на совести, что я его с папа как будто разлучила. Но он мне говорил, между прочим, чтобы я ни в чем себя не считала виноватой перед ним, потому что он - сам взрослый и сам должен отвечать за себя. Я себя иногда спрашиваю - могла бы ли я заставить его сделать что-нибудь дурное? Думаю, что нет.
Он ушел, и мы вскоре уехали.
Мне было хорошо, серьезно, но грустно. В вагоне читала последние листки из его дневника, хотя он говорил мне не читать их. Я не обещала и потому позволила себе это. Меня это волновало, но никаких новых решений и мыслей не вызывало. Я так устала и так разбита тем, что пережила, что хочется только не бередить, не трогать ничего и дать всему улечься и успокоиться.
Машу мы оставили в Туле; ее Иван Иванович повез в Овсянниково, а мы с папа поехали дальше. Разговорились с одним пассажиром: он харьковский физиолог, Данилевский, читал речь на собрании естествоиспытателей. Умный и интересный человек. Он мне подробно и ясно рассказал суть своей речи и цингеровской, так что я все поняла, но потом, когда мы ехали в санях с папа, я старалась вспомнить, что он рассказал мне, но ничего не осталось в голове*. Всё заслонили мысли о Жене, которые, как только я забудусь, нахлынут и всё унесут, что не они.
* (28 января Лев Николаевич писал сыну Льву из Гриневки: "Ехав сюда, я разговорился с господином. Он стал говорить про съезд естествоиспытателей. Я сказал, что мне особенно не понравилась речь Данилевского. Оказалось, что это - сам Данилевский. Речь его получила такой резкий смысл, потому что она урезана. Мы приятно поговорили" (т. 67, с. 20). IX съезд естествоиспытателей и врачей происходил в Москве 3-11 января 1894 г. На последнем собрании съезда присутствовал Толстой.)
Вчера мы на станции долго сомневались, ехать ли нам, так как сильно мело. Мы оба были в нерешительности и как-то вяло решили ехать. Но как только мы выехали, на меня напали ужасный страх и тоска. Во-первых, мы забыли валенки папа, он был в одних башмаках и калошах. Как поехали мы, вьюга, темнота, то сугробы, то голая земля, ветер свистит, снег так и крутит. Я ужасно оробела и стала себя упрекать в том, что я с своими эгоистическими мыслями совсем о папа не забочусь, забыла его валенки, не настояла, чтобы остаться ночевать, боялась, что придется вылезать из саней, он простудится и заболеет, и думала: "Вот мне наказание за мой эгоизм".
Но все обошлось благополучно. Нам было тепло, вешки были видны, и мы успокоились и разговаривали. Говорили о предполагаемых гонениях на "Посредник". Папа говорил, что как нам непонятны люди правительственные, так им непонятны и, кроме того, страшны люди, как "посредниковцы", которые почти ничего не потеряют, если их сошлют или заключат. Они ничем не дорожат, ничего у них нельзя отнять: ни удобств никаких, ни вина, ни папирос, ни женщин. Поэтому у них нет ничего, из-за чего они пошли бы на компромиссы и чем можно было бы их подкупить. Я почувствовала гордость и радость за Женю, но опять страх, чтобы не быть именно такой задержкой. Впрочем, я думаю, может быть и напротив: и я могу, может быть, помочь ему.
Здесь мне хорошо. Двое милых детей. Дело есть. Немножко скучно, что дети постоянно отрывают от всякого занятия, но я стараюсь, чтобы это не было бесполезно. Сейчас Миша колотил палкой деревянную лошадь, и чем больше колотил, тем более краснел и злился. Я его остановила, и он сейчас же перенял мою интонацию, начал что-то лошади лопотать и целовать ее. Как мне кажется легко и радостно воспитать детей. Вот это для меня ужасное горе - не иметь детей.
Сегодня, проснувшись, я услыхала этот милый лепет детский, который всегда приводит меня в восторг, потом топот неверных толстеньких ног, и прибежал Мишка, влез ко мне на кровать, потом Анна, и мне было очень приятно и весело. Я вполне понимаю ту девушку, которая, потерявши своего ребенка, ходила по улицам и ласкала всех детей и украла того, который охотно пошел к ней. Это было судебное дело, я читала в "Русских ведомостях", и это меня очень тронуло. Тут много трогательных подробностей. Из этого хороший вышел бы рассказ. Девушке было 18 лет, и она за это 4 месяца просидела в тюрьме. Надо достать эту газету. Это, кажется, 21-го января.
Опять о Жене. Он ужасно худ, бледен и жалок. Я тоже очень похудела. Вчера Маша говорит: "Седая ты и какая глупая". Действительно, как глупо нам мучить себя - и ради чего? Надо мне опять взять себя крепко в руки и быть бодрой, мужественной и пробить себе какое-нибудь окно в настоящую жизнь и отдаться ее требованиям.
9 ч. вечера.
Поужинавши, час ходила по комнате и старалась усмирить и успокоить себя. Я не знаю сама, о чем я плачу, но так больно, безнадежно, грустно, что я возмущаюсь и ропщу. Но о чем - не знаю. И если спросили бы меня, что приводит меня в такое отчаяние - я не сумела бы ответить, и не знаю, чего бы я хотела и что утешило бы меня. Одно я чувствую - полное одиночество. Я от этого отвыкла за последнее время, а это вредно. Три дня я плачу, не осушая глаз, и папа этого не видит. Сейчас он входил ко мне, говорил со мной, и мне хотелось ему все рассказать. Но я знаю, что даже он не понял бы; и боюсь, чтобы он не стал хуже относиться за это к Жене. Женя говорит, что если стоит, то пусть, но мне жалко, кроме всего неприятного, что я для него сделала, нанести ему еще это горе.
Я постараюсь скрыть от него сегодняшнюю слабость, пусть он со своей жизнью справляется. У него без меня много трудного.
Через две недели я вернусь к нему, спокойная и веселая, во всяком случае. Если я действительно успокоюсь и поправлюсь, и увижу, что мы можем продолжать общаться так, чтобы из этого выходило только хорошее, то так и будет. А если я вернусь такая, как сейчас, то я не покажу ему этого, а понемногу, осторожно разойдусь с ним. Как стыдно, как стыдно, что мне это так важно.
Минутами мне кажется, что ничего этого нет: это все испорченное воображение и расстроенные нервы, для меня он ненужный чужой человек. Но потом тотчас же чувствую, что это неправда и что он так тесно вплетен в мою жизнь, что в каждой частице ее он участвует.
Неужели я жила на свете 29 лет и училась жить все эти года, чтобы теперь так ослабеть? Неужели я так сознательно и открыто всю жизнь гнала от себя любовь во всевозможных формах, чтобы теперь подпасть под ее рабство в форме дружбы? И неужели я, которая всегда ценила и старалась развить в себе свободу, власть над собой - теперь буду зависима от привязанности, которая расслабит меня? Если я попущусь, то, пожалуй, сделаюсь нервной, истеричной девой, ни на что и никому не годной и не нужной. Я выйду победителем из этого во что бы то ни стало. Надо начать с того, чтобы никому не говорить и не желать говорить об этом. Такие минуты надо переживать одной, чтобы никто не путал в них и не влиял бы. Я рада, что я никому не показала этого и не допустила до того, чтобы меня пожалели, а то это еще хуже размягчило бы меня. Надо не забывать о том, чтобы жить одной с богом и хорошенько слушаться Его. Тогда и не страшно остаться одинокой, без привязанностей.
26 января.
Куда же мне убежать от себя? Опять трудно, и сердце болит нестерпимо. В горле все время спазмы, и иногда не могу ответить, когда говорят со мной. Тут не один этот мой экзамен меня мучает, а как всегда, когда начинаешь приводить одну часть себя в порядок, то попадается многое такое, что требует внимания и разборки. Женя говорил мне, чтобы я побольше занималась, но это не хороший совет; надо построже и повнимательнее в себе все разобрать, а не стараться заглушить начавшуюся работу. О Жене и наших отношениях ничего нового и не думаю и не могу думать. Чувствую в душе огромную пустую рану, как после того, как зуб выдернули, и при всяком прикосновении - если подумаю о будущем, о возможной ревности и т. п.,- больно. Я стараюсь быть терпеливой и выносливой и не распускаться. Мало ли горестей у людей бывает хуже, чем то, что я испытываю? И надо молчать и не жаловаться.
Сейчас говорили долго с папа. Но не могла говорить вовсю, потому что меня душили слезы и я не могла отвечать то, что хотела. Он говорил про свое писание, что он от близости смерти совершенно свободно к нему относится и об одном только думает, чтобы писать то, что он знает и чего другие не знают. И так как ему не мешают ни тщеславие, ни страх, ни что-либо подобное, то ему легко. И что вообще надо так к жизни относиться. Не помню, как он вызвал меня на то, чтобы я сказала ему про себя, что меня мучает больше всего раздвоение, которое я постоянно испытываю. Например, у меня давно готовится решение к вопросу о собственности, и что совершенно искренно и сознательно я хотела бы и считаю нужным от нее освободиться. А вместе с этим вдруг мелькнет мысль о том, что я буду делать такие портреты, за которые мне будут платить тысячу рублей, и вдруг завидно, что у кого-нибудь хорошие лошади и т. п. И постоянно так. Здесь, глядя на этих детей, много думаю о воспитании, и тут опять все мои мысли путаются и двоятся. Папа говорит, чтобы об этом не отчаиваться, и что это только значит, что происходит работа. Потом почему-то (ужасно я тупа сегодня, ничего не помню, а хочется записать, что папа говорил) перешли на разговор о любви, замужестве. Я сказала, что в этом вопросе то же самое, как с деньгами, и папа спросил: что же тверже? Я сказала, что в любви тверже. Он обрадовался и переспросил и потом сказал, что мы, девушки, недостаточно ценим своей чистоты, что мы представить себе не можем, какое это падение и для мужчины и для женщины это физическое отношение, и что это на всю жизнь дает отпечаток. Я ему сказала, что я это знаю и всегда чувствовала - сначала инстинктивно, а потом более сознательно, и что всегда буду рада, что не вышла замуж. Папа говорит: "А сама всегда готова влюбиться". Я сказала, что это правда, но что я себя никогда не допустила и не допущу до этого.
Папа говорит, что ему иногда жалко меня, что я не испытала радостей замужества и материнства, и особенно что просто хотелось бы мне дать пососать этот леденец. Но я думаю, что я не могла бы им наслаждаться.
Этот разговор меня успокоил и утешил, точно погладил по голове.
Иду спать. Мне жаль, что я очень поглупела за это время. Жизнь одна только, а я ее так бесполезно трачу. Ах, Женя, Женя, как мы с ним попались в расставленные нам сети! Но мы с ним оба желаем быть правдивыми и хорошими и поэтому, конечно, выберемся.
27 января. Четверг.
Папа сегодня говорит мне: "Таня, отчего мне так грустно?" Я ничего не могла сказать ему, но упрекнула себя в том, что это я навожу на него тоску бессознательно, гипнотически.
Папа со мной очень ласков, спрашивает: "Отчего ты худеешь?" Сейчас убеждал меня поесть что-нибудь, выпить молока, велел Соне кормить меня, "а то она чахнет", и потрепал меня по затылку. Я чувствую себя перед ним виноватой тем, что умолчала от него все, что со мной происходило, но, право, для него же и для Жени, думаю, что так лучше. Завтра, должно быть, будет письмо от Жени. Я его не особенно жду. Вообще я вылечиваюсь (сегодня). Тоске целый день не дала ходу, думаю меньше и спокойнее о Жене. Дай бог, чтобы так вперед шло. Это сделал папа, спасибо ему.
Надо быть вполне правдивой, и поэтому запишу то, что неприятно записать и что только чуть-чуть во мне мелькнуло. Это какая-то едва заметная тень обиды и возмущения на Женю.
Ходила сегодня с Анночкой пешком к соседям Лимонт-Ивановым. Это версты три. Мы обе устали, но было приятно. Оттепель и солнце. С нами ходила собака. У Лимонт застали только детей. Соня одна в санях приехала за нами и нагнала у самой усадьбы. Рисовала утром. Вечером переписывала "Тулон" для папа. Все эти дни делала то же самое, в промежутки читала, занимала детей, учила анатомию и т. д.
28 января.
Сегодня большую часть дня прогуляла, так как были Лимонты, все семейство. Впрочем, утром занялась анатомией. Получили письма от Маши, Левы и мама. Лева поехал в Париж. Бедный, он хочет убежать от своей болезни, и на каждом новом месте ему кажется, что ему хуже, потому что надежды его обманываются.
Странное у меня чувство ревности к Маше: вчера папа написал ей, что, как всегда, она ему недостает*, и у меня на несколько часов была тяжесть на душе. Сегодня она пишет, что написала несколько писем, и это почему-то мне было неприятно. Подумала: какие у нее с кем отношения? Впрочем, не могу даже объяснить, что подумала, но было нехорошо. Я виню ее в этом. Она всегда старается во всем - это иногда даже смешно в мелочах - забежать вперед меня и дать мне это почувствовать. И когда постоянно так забегают вперед и как бы дразнят: "а я впереди тебя", то невольно это делается неприятно.
* (Письмо Толстого к Марье Львовне от 27? января см. т. 67, С 18.)
Ходила в сумерки одна походить. Чудо как хорошо. Морозец, дорога белая, под ногами скрипит, и молодой месяц. Думала опять о том, что надо привыкать жить одной. Никому не жаловаться, о себе не рассказывать. Это очень помогает быть терпеливой и мужественной. А жаловаться последнее время часто хочется. Все плохо физически. По ночам у меня бывает такая дрожь, что зубы щелкают и колени дрожат, а утром голова тяжела и слабость страшная.
Сегодня я ждала письма от Жени, так как сказала ему написать в среду (сегодня пятница), но не получила. Это меня не испугало и не обеспокоило: вероятно, получу завтра.
Думала о том, что мы с ним проделали все: и влюбление (с его стороны), и ссору (тоже с его), и ревность (с моей стороны), так что теперь нам ничего больше не остается, как успокоиться, и, как старички, спокойно и тихо быть дружными, не устраивая никаких новых драм. Думаю о нем сегодня хорошо: с уважением, и дружбой, и с жалостью. Как мы измучили друг друга, как это стыдно.
Надо писать "Тулон". Папа сегодня много нового прибавил. Мне обещала помочь Соня.
Сегодня утром Соня дала мне просмотреть свой дневник. Я там увидала много хорошего и много правдивого и искреннего стремления ко всему хорошему; все это наивно, недодумано, но мило. Она жаждет побольше узнать того, что думают люди, которых она уважает, и все расспрашивает и возражает для того, чтобы запастись аргументами. Надо будет дать ей, что сумею достать, из последних писаний папа.
29 января.
Сегодня утром ездила на Бастыево. Получила письмо от Жени, милое, мягкое. Точно по головке погладило. Пишет так, чтобы я могла его показать папа, что я и сделала. Присылает письмо жены - недоброе. Папа был им возмущен, а Женино письмо похвалил. Приехавши, обедали, потом рисовала, потом пошла пройтись, потом Анночку занимала, пока Соня спала, а вот теперь переписывала с Соней и болтала. Она говорила, что гораздо больше ценит то, чтобы люди делали добро другим, чем чтобы себе отказывали в удовольствиях, и говорила, что иногда ей так хочется повеселиться, что она не может от этого удержаться, и тогда выбирает самое невинное - прокатиться на опасных лошадях.
Папа вчера велел нам петь. Сейчас Соня придет, и я буду ей аккомпанировать. У нее милый голос, и первые дни она мне душу растерзала.
Сегодня я спокойнее. Письмо Жени было очень приятно. Кажется, нам можно будет вернуться к прежним спокойным, сердечным отношениям. Хотя нет-нет да и шевельнется во мне страх перед рабством этой привязанности, в которое я могу попасть.
Папа написал Леве хорошее письмо, которое я списала*.
* (Письмо Толстого к Л. Л. Толстому от 28 января см. т. 67, С. 19-20.)
На днях мы с ним на дворе встретились и разговорились, и оказалось, что мы думали о том же самом. То есть нас поразило количество рабов, работающих на господ. И здесь это особенно поразило нас, потому что мы оба смотрим на Илью почти как на ребенка, а в его власти люди серьезные, терпеливые, заморенные, и от него зависит делать с ними, что он хочет. Я подумала, что в Овсянникове моим именем властвует там Иван Александрович, и опять навело на мысли о собственности и о том, что нужно непременно от нее отделаться. Я знаю, что мне было бы гораздо легче и радостнее, сделав это, но почему-то страшно на это решиться. Страшно, главное, оттого, что я думаю, что я вдруг перестану думать, как теперь, и мне будет жаль того, что я сделала.
Живя тут близко с детьми и имея их постоянно на глазах, много думаю о воспитании. Как умно, что женщинам дана эта страстная любовь к детям. Без нее нельзя бы вынести этой жизни с заботами исключительно о детях. Я смотрю на Соню и думаю, что если бы у нее не было няни, то ей всю жизнь без остатка пришлось бы посвятить этим двум детям: ни читать, ни писать, ни общаться с людьми - ничего нельзя бы было. И это дело страшно трудное, утомительное и скучное. Потому что, в сущности, ничего нет ни умного, ни доброго в детях, а все эти заботы и труды искупаются только этой слепой любовью к этим маленьким животным, которую испытывает всякая женщина, и я в высшей степени. Я не говорю о тех, которые придают серьезное значение своей обязанности перед детьми - таких все-таки меньшинство, и это часто играет второстепенную роль.
Что-то я не то хотела сказать. Я устала, и мозги не ворочаются, и когда я записываю то, что думаю, на бумаге выходит совсем не то.
31 января.
Сейчас говорила с папа о его дневниках. Просила его дать мне когда-нибудь которые-нибудь из них прочесть, и он сказал: да, хотя пишет их так, чтобы никому не читать. Я спросила: а после смерти? Он сказал: тогда, разумеется. Соня говорит: только не печатать? Папа говорит: не знаю. Я: это завещается мне и Маше? Папа: и Черткову. Папа говорит, что никто, как Чертков и Русанов, его не понимает. Русанов более с художественной, Чертков с моральной стороны. И что Чертков даже с излишним уважением все подбирает, что его касается, но зато ничего не упустит.
Потом мы почему-то говорили о моих романах, и папа считал моих женихов: насчитали десяток.
Папа порадовался, что я так благополучно прошла мимо их всех, и пожелал мне того же вперед.
Две вещи из написанного за это время беру назад: это осуждение Маши; как можно осуждать другого за то, что у меня нехорошие чувства. Второе, это что я писала, что горе не иметь детей: напротив, это счастье.
Сегодня день у меня какой-то пустой. Утром ходила в здешнюю школу и, видя ребят, ужасно захотелось быть с ними в общении и учить их.
Чувствую, что из меня понемногу выходит мое московское утомление, от него я здесь отдыхаю и переживаю дни совсем апатичные, вялые, пустые.
Папа говорит, что внутренняя работа происходит иногда очень глубоко и неощутительна, пока она совершается. Велел мне не унывать. Но я не унываю и сказала ему это.
Папа написал хорошее письмо К. Бооль об унынии; я его и несколько других списала*.
* (29 января Толстой писал К. К. Бооль в город Сумы, где она служила гувернанткой, в ответ на ее письмо: "То, что вы считаете себя нехорошей - это прекрасно, но из этого не следует, что надо отчаяться, а напротив то, что надо всю жизнь стараться быть менее нехорошей и в этом видеть все дело жизни" (т. 67, с. 21).)
С ужасом думаю о Москве. Опять это напряжение нервов с утра до ночи. Рисование, в которое все-таки кладешь все, что есть внимания и напряжения, дела папа - переписка, разные проверки, иногда переводы, и в промежутки гости, гости без конца. Приедешь из Школы - ни пообедать спокойно, ни прочесть что-нибудь, ни письма написать - ничего не дадут. Только и одиночества, что идешь с Мясницкой домой пешком. Папа говорит, что надо видеть и ценить преимущества этой общественной жизни. А мне жалко, что жизнь так проходит пустая, никому не нужная и еще тяжелая.
Отвыкаю немного думать о Жене. Но странно, что хотя я отвыкаю, ужасно боюсь, чтобы он тоже обо мне стал меньше думать. А надо так к нему относиться, чтобы ожидать от него только такого же отношения, как ко всякой другой женщине.
Получила хорошее письмо от Веры. Вот ее мне незачем будет когда-либо бросать, и ей меня.
2 февраля.
Очень меня тяготит то, что у меня есть секрет от папа.
Не сказала я ему его, когда мы только что сюда приехали, главное потому, что хотелось самой разобраться в той работе, которая во мне происходила, и боялась жалости. От нее я распустилась бы и перестала бы быть к себе строгой. Потом боялась, что это его огорчит, отвлечет от работы. Ему жить не долго, и мне всегда жаль, когда что-нибудь постороннее отнимает его внимание. Потом боялась, что он переменится к Жене, и жаль бы[ло] этого, и боялась, что невольно вперед он будет участвовать в наших отношениях, хотя, наверное, старался бы оставить меня совсем свободной. Но постоянно я боялась бы, что он боится, было бы ненатурально и неловко.
Конечно, когда-нибудь скажу ему. Надо только спросить у Жени. Если бы я думала, что он об этом тревожится, как иногда мне кажется, то, разумеется, я сказала бы ему. Отчего он меня не спрашивает?
Сегодня едем в Ясную.
3 февраля. Ясная Поляна.
Вчера в 12-м часу были здесь. Привез нас Родивоныч на паре веселых кобыл. Здесь встретила нас Маша, Марья Александровна и Хохлов с самоваром и овсянкой. Очень было приятно въехать в Ясную. "Пришпект", лошади, дом, комнаты - все так привычно и мило.
Сегодня много разговаривали. Марья Александровна рассказывала про жену Хохлова. Она, должно быть, удивительно хорошая женщина и страшно много вытерпела на своем веку. Но папа говорит, что она не радостная, а скучливая и унылая. Как интересно было бы записать такую жизнь. Маша рассказывала об аресте и увозе Холевинской. Это тоже целая история препоучительная. Она ее сама записывает*.
* (Мария Михайловна Холевинская, до 1894 г.- земский врач Крапивенского уезда, затем в Туле. Часто бывала в Ясной Поляне. 27 ноября 1893 г. арестована по оговору фельдшерицы Труша и увезена в Киев, где просидела два месяца в одиночной камере. С просьбой об ее освобождении Толстой обратился к А. М. Кузминскому и А. Ф. Кони (т. 66, с. 455-456). Холевинская была освобождена в январе 1894 г.)
Говорили о темных: Алехиных, Гастеве, Скороходове, и Марья Александровна их очень осуждала за то, что бродят из одного места и дома в другой, не работая, а только разговаривая. Папа это поддержал и сказал, что это потому, что у них нет любви к работе, как, например, у Колички, у Булыгина и т. д. Потом Марья Александровна рассказывала про разные отношения этих людей между собой и, между прочим, цитировала фразу какого-то из них: "Я думал, что вы не признаете личностей". Я расхохоталась. Так они всё запутали, переанализировали, что никто ничего разобрать не может. А мне последнее время так хочется жить попроще. Не то что распуститься, а хочется перестать задавать себе так много вопросов, которые, цепляясь друг за друга, уводят меня в такие лабиринты, из которых мой слабый ум и маленькие силы не в состоянии меня вывести. Папа сказал, что никак нельзя жить одним разумом, а надо жить по сердечному влечению. Я спросила: а если оно никуда не влечет? - Жить животной жизнью; по крайней мере, так все и будут знать.
Потом он говорит: и странное дело, что все те, которые так смело и резко изменили всю свою жизнь, менее всего имели это сердечное влечение, а смотришь, человек ничего почти не изменил внешне, а весь полон самого искреннего, христианского чувства.- Для меня всегда такие слова соблазнительны, но я стараюсь не переставать, вследствие их, быть к себе строгой.
Ходила сегодня к колодцу по Заказу и радовалась на жизнь. Встретила мужиков, которые возят теперь в огромном количестве дрова из Засеки - здоровые, румяные, простые. После Хохлова это - успокоительно. Полька Балхина, Константин Ромашкин, Пашка Давыдов - красивые и веселые.
Папа говорил на днях, что когда он в своих писаниях подписывается, то следует все переписать, чтобы иметь цельный экземпляр в оконченном виде, а то он иногда начинает, вновь поправляя, путается, а к прежнему не может вернуться, так как оно уже испачкано и искалечено. Надо это помнить.
Говорили с Хохловым. Он говорит, что настоящий христианин должен быть бродягой, и единственное возможное для него место теперь - это тюрьма. Может быть. Но как-то меня это не берет, не захватывает. Должно быть, еще далеко от очереди. Все равно, как если бы говорили мне, что надо вшивать рукав, когда еще у меня юбка не скроена. Я думаю, что не надо насильно рассудочно вызывать в себе вопросы и задачи, которые сами не просят разрешения, а давать жизни предъявлять свои требования, на которые стараться отвечать со всевозможной строгостью и серьезностью и все силы душевные на это напрягать.
Меня последнее время занимает мысль о том, что с результате достижения идеала получается уничтожение жизни. Чем сильнее развивается во мне любовь и жалость, тем труднее становится мне поддерживать свою жизнь, в которой каждый шаг, каждое движение может быть причиной уничтожения жизни животных, хотя бы самых микроскопических. С другой стороны, если всегда открыто говорить правду, кончится тем, что тебя за это убьют; и, наконец, то, что идеал есть безбрачная жизнь, и поэтому неизбежно род человеческий кончится. Может быть, начнется что-нибудь другое, о чем мы не знаем?
Устала, не могу связать мыслей. Иду спать. У меня очень тупа стала голова последнее время, а сейчас еще спать хочется. Вчера легли в 3, всё с Машей разговаривали. Сейчас приедут с Козловки, не будет ли письма от Жени?
4 февраля.
Умер Дрожжин. В этом что-то серьезное и торжественное*.
* (Е. Н. Дрожжин, крестьянин, сельский учитель, в августе 1891 г. отказался от военной службы, за что был судим военным судом и приговорен к заключению в дисциплинарном батальоне. Непрерывно содержащийся в карцере, истерзанный голодом, заболел туберкулезом и умер 27 января 1894 г. 9 февраля 1894 г. Толстой записал в Дневнике: "Дрожжин умер, замученный правительством" (т. 52, с. 3).)
Утром приехал Поша. Много рассказывал про Хилкову - старую и про молодую*.
* (23 октября 1893 г. к сосланному на Кавказ единомышленнику Толстого Д. А. Хилкову приехала его мать - княгиня Ю. П. Хилкова; "по высочайшему повелению" с помощью полицейского пристава забрала у него двух малолетних детей и увезла с собой в Петербург. Поводом для этого явилось непризнание официальной церкви Хилковым, который жил с женой - Ц. В. Винер, не венчаясь, и не крестил своих детей. Толстой, принимая участие в судьбе Хилкова, написал письмо его матери (т. 66, с. 423-424), обратился с пространным письмом к Александру III (2-3? января 1894 г., т. 67, с. 4-9). Однако дети родителям возвращены не были.)
Хохлов целый день сидит мрачный, угрюмый, не говорит ни слова, не ест, не пьет, кажется, не спит. Ужасно жалко на него смотреть. Вероятно, он сойдет с ума. Чем ему помочь, чем успокоить - не знаю. Мне страшно с ним говорить, да я и не знаю, что сказать ему.
Поша мил: живой, веселый, энергичный. Папа его очень любит, и мне завидно за Женю, хотя, может быть, он его любит не меньше.
5 февраля.
Вчера получила письмо. Я его ждала. Вечером Иван Александрович поехал на Козловку, и мы читали в "Русской мысли" рассказ Чехова "Бабье царство". Когда время подошло к тому сроку, когда Иван Александрович должен был вернуться, я пришла в беспокойство и чувствовала, что если он принесет письмо при всех, то я покраснею. (Я и так постоянно мучительно краснею.) Я и сказала, что пойду спать, и мы, не дочитавши 8 страниц, разошлись. В коридоре встретила Ивана Александровича, который привез только это одно письмо.
Он пишет, что Пятницкий сошел с ума. Это ужасно. Пятницкий, жена Фейнермана, Хохлов у нас тут на границе, Леонтьев сходил с ума, Чертков нервами расшатан,- да имя им легион! Что такое? Откуда и почему это?
Еще он пишет о том, что я напрасно беру назад свои слова об ответственности (я писала ему, что не добро и неразумно мне складывать на него всю ответственность за наши отношения), что при большой слабости человеку больше делать нечего, как обратиться к другому человеку за помощью и поддержкой. Да, но к этому не надо привыкать. И потом, буду ли я всегда иметь его плечо, на которое могла бы опереться?
Утром приехали Чистяков с мужиком одним, Михаилом Петровичем. Чистяков мне немножко гадок после того, что я прочла о нем в Женином дневнике. Мужик умный, читает философские книги, получает "Журнал философии и психологии", но, видно, это все только умствование, и жизнь идет совершенно независимо от того, что делается в голове. Пьет.
Ходили все - и папа - поздравлять Агафью Михайловну с именинами. Я осталась последняя одна и все расспрашивала ее про мать папа. Она говорит, что она была на меня, больше чем на всех других, похожа, но поменьше ростом. Скорее полная. Постоянно говорит про нее, что она была "заучена". Знала языки, прекрасно играла на фортепьяно. Браниться не умела.
Как это досадно, что такая беспомощность в том, чтобы вызвать то, что было прежде. Со временем будут такие совершенные фотографии, фонографы и т. д., что человека всего восстановить можно будет. Зато какая будет пропасть хламу, в котором почти невозможно будет разобраться.
Сегодня я очень гадка, хотя встала рано и целый день была деятельна. Во-первых, сердилась на Машу (не показала ей этого). Она очень кривляется с Пошей. Или уже мне, как пуганой вороне, это кажется? И мне она этим противна. Всякий мужчина так ее возбуждает, что просто смотреть неприятно. Хоть бы она скрывала это. Третьего дня она целый день была вяла и скучна, и жаловалась, что "зеленая"* навалила, а стоило приехать кому-нибудь, как она возбуждена и весела. Хотя бы она вышла замуж поскорее, а то это киданье на шею каждому, кто возле нее поживет,- это безобразно. Как это смотреть людям в глаза, когда так испачкана, со столькими мужчинами была на "ты", целовалась. Всякий раз, как я об этом думаю, во мне поднимается возмущение и стыд за нее и досада за то, что ей не стыдно. Хотя я этого могу и не знать, да я и думаю, что она за это много страдала. Я помню, как я была поражена, когда узнала, что она с Пошей по коридорам целовалась, а она этого не понимала. Я часто думаю, что она в этом не виновата, так как совсем была заброшена девочкой и не воспитана. Меня же не только держали строго, но постоянно папа следил за мной, давал советы, и мама, которая всегда меня любила больше ее, более старательно меня воспитывала, и в этом отношении хорошо.
* (Зеленая тоска.- (Прим. сост.))
12 часов ночи. Нехорошо, что я так пишу о Маше: эту ее дурную сторону искупают много хороших. И со мной она так хороша, что мне стыдно ее осуждать. Да я сама нисколько не лучше ее. Если во мне не было чувственного кокетства, то оно было эстетичное. Это нисколько не лучше, а если оно сознательное - то хуже.
Я сейчас испытываю результаты этого: так не хочется стареть, дурнеть, слабеть. Мне трудно, а я воображаю себе, как страдают стареющие женщины, которые положили всю свою жизнь на то, чтобы быть красивыми и нравиться. Для меня это составляет маленькую часть моей жизни: день я потужу о том, что начинаются морщины, волосы и зубы падают, а десять дней не вспомню об этом. А если бы думать только об этом, как и было со мной одно время, то ужасно трудно всего этого лишиться. Этот успех - это самое соблазнительное пьянство, которое только существует, и самое опасное, потому что, пользуясь им, совершенно перестаешь быть к себе строгой и начинаешь сама собой восхищаться.
Да, я в плохом духе. Сегодня опять испытывала ревность к Маше за папа. Если он войдет к ней, а ко мне не зайдет, то мне неприятно. И мне кажется, что он меня не любит, что я скучна, и хочется для него сделаться забавной, умной и красивой даже. Как глупо! Это чувство ревности для меня совсем новое, и странно, что я чувствую его только к Маше. Неужели мне придется испытать все Дурные человеческие чувства? Еще есть такие, которых я не испытала: например, зависть к красоте, успехам (в живописная могла бы это испытать). И еще чувство, которое мне не хочется называть. Надо быть очень строгой и внимательной, а я постоянно забываюсь и распускаюсь.
Уехали Чистяков и Михаил Петрович. Хохлов все тут и ужасно тянет за душу. То не ест ничего, потому что, говорит, что не имеет права есть картошку, которая добывается таким трудом, то ест финики и мед с сайкой. Делать ровно ничего не хочет. Папа им очень тяготится, но старается изо всех сил помочь ему. Я думаю, что он оттого так несчастлив, что хочет сразу разрешить все вопросы жизни: не только те, которые ему представляются, а те, которые у него еще не на очереди и которые он искусственно вызывает. Я все больше и больше убеждаюсь в том, что для того, чтобы быть разумным и спокойным, надо решать только те вопросы, которые сейчас непосредственно становятся перед тобой и которые не дают покоя, пока они не разрешены; а не искать их и не ожидать того, что сумеешь найти ответы на все вопросы, которые можно только выдумать. И тогда будет соблюдаться постепенность этой внутренней работы, которая так дорога, когда она искренна и разумна, и те ответы, которые сперва казались неразрешимыми, станут просты и ясны, когда до них дойдет очередь. Это я часто испытывала. И испытывала ужасное мучение, если начнешь себе ставить задачи и задавать вопросы выше сил и разума.
6 февраля.
Сегодня утром приехал еще крестьянин Емельян Ещенко, друг Черткова. Симпатичный и милый человек. Совершенный контраст вчерашнему. У этого, видно, все идет от сердца, и поэтому внешняя жизнь его идет соответственно внутренней.
Утром я убирала свою комнату и выливала ванну, которую я себе вчера натаскала и в которой прекрасно вымылась. Живем без прислуги, кроме Петра Васильевича, и очень весело и легко все делать самим. Хоть бы всегда так. Потом пошла пройтись и принесла со скотной хлеба к обеду. После обеда рисовала Хохлова, потом почитала анатомию, переводила Derrick Vaugham, которого папа рекомендует, но который мне не особенно нравится, потом сидели лод сводами все вместе. Подошел еще Константин Ром[ашкин] и разговаривали - больше папа и Ещенко. Ещенко много рассказывал о разных сектантах, о гонениях на них, и я любовалась на его ясное и разумное христианское отношение ко всему этому.
С Хохловым много говорила во время сеанса. Он слабый и, хотя страшно это сказать, не совсем искренний человек. То есть не то чтобы не искренний, а много в нем рисовки и ненатуральности. Между прочим, он осуждал Евгения Ивановича: говорил, что он ему не доверяет, что он - теоретик, что он баловень судьбы и потому строго относится к другим, не знает нужды, всегда делает, что ему хочется, ездит, куда вздумается и т. д. Я просила его перестать, но он несколько раз возвращался к этим осуждениям, и я ему сказала, что я расскажу это Евгению Ивановичу.
Получила прекрасное письмо от Веры Толстой. Хороший она человек. И какая счастливая, что никогда не была привлекательна, не была кокетлива и за ней не ухаживали. Она может об этом пожалеть и жалеет, но зато она избегла многих страданий. Вот за радости отношений с ней мне никогда не приходилось и, вероятно, не придется платить.
Я сегодня опять не хороша. Хочется видеть Женю, хочется, чтобы он любил меня, и вместе с тем страшно боюсь этого. Когда подумаю только, что не отделаюсь от этого рабства, то нападает тоска и беспокойство. И, кроме того, чувство унижения - стыда за то, что я могу так зависеть от привязанности, придавать ей столько значения, так много сил на нее тратить.
Герцен пишет в "Кто виноват?", что когда два человека любят друг друга, то они дают друг другу все, что у них есть самого прекрасного в душе, и что надо дорожить этим. А Амиэль говорит что-то вроде того, что самое опасное есть то дурное, в котором есть и хорошее.
Папа с Пошей уехали на Козловку.
Маша с Пошей мне все неприятна, но я не позволяю себе осуждать ее. Она думает (и, кажется, справедливо), что Поша до сих пор, несмотря на все, очень сильно любит ее, и она не может не быть ему благодарной за это, и это ее возбуждает.
Сегодня Поша дал прочесть одно письмо Шараповой к нему, и оно меня расстроило и взволновало. Я так ярко узнала себя в нем: то же страдание оттого, что чувствуешь, что недостаточно веришь, не любишь бога, а любишь людей.
Я думаю, что я слишком праздна и сыта и поэтому мало серьезна. Хотелось бы жизни посуровее, а вместе с тем не умею ее так устроить. Думала, что здесь будет трудно без горничной. Выходит, что это почти незаметно, потому что мы встаем гораздо раньше, а рисование, переводы - все это можно и делать, а можно и не делать, и это последнее время меня не увлекает.
7 февраля.
Вчера было письмо к папа от Евгения Ивановича. Спрашивает у него совета, не взять ли на себя составление биографии Дрожжина. Я очень этого желаю ему. Это дело его захватит и увлечет, а с его точностью и умением придавать значение мелочам он это прекрасно сделает. Я думаю, многим будет полезно и радостно узнать про все подробности жизни Дрожжина*. Ему придется поехать туда на место и там собирать всевозможные сведения. И странно - мне не жаль и не страшно с ним расстаться. Я думаю, что это потому, что я знаю, что ему будет хорошо. Мне будет пусто в Москве, но это тем лучше. А то правда, это мучительно жить за пять минут ходьбы друг от друга и подолгу не знать ничего и испытывать боль каждый раз, как Маша туда пойдет.
* (7 февраля 1894 г. Толстой писал Е. И. Попову: "Разумеется, очень хорошо будет, если вы возьметесь за биографию Дрожжина (...). Я уверен, что вы сделаете хорошо. Надо только поездить и к его родным, и в дисциплинарный батальон и в Харьков" (т. 67, с. 31). См.: Попов Е. И. Жизнь и смерть Е. Н. Дрожжина. С предисл. Л. Н. Толстого. Берлин, 1895 г., изд. Готгейнер.)
Сейчас приехали с Козловки. Ездили втроем - Поша, Маша и я в розвальнях.
Ночь такая, как редко бывает. Светло от луны так, что читать можно, морозно, визжат сани, кобылка бежит весело, мы все молчим и каждый думает о своем. Назад ехавши, пели.
Маша что-то грустна сегодня, и мне ее жаль. А мне, напротив, хорошо на душе сегодня. Емельян удивительно милый человек. Сегодня он с папа ходил гулять, и когда они вернулись, то Поша у него спросил - о чем они говорили. Ему не хотелось говорить, но Поша этого не заметил и несколько раз допрашивал его. Тогда он сказал, что ему стыдно говорить об этом, что он рассказывал про свое неразумие, о том, как они переходили в молоканство.
Рисовала Хохлова и думала о том, что изо всех занятий, которые ему предлагали, он выбрал самое нелепое и бесполезное - это позировать. Сначала он ставил нам самовар, потом решил, что это бесполезно, пойти сказать запрягать кучеру он тоже не может, а два дня по три часа позировать он может.
Сегодня у нас были блины. Он, как всегда, за стол не сел, и на предложение всех поесть блинов он отказался. Потом мы все кончили, и осталось несколько блинов. Я ему сказала, чтобы он их доел. Тогда он сел к столу, все их съел и в первый раз пообедал с нами до конца, да еще всего брал по два раза.
Приезжали волостной писарь и один юноша - арендатор Ясенков. Было скучно. Поша получил от жены коротенькое письмо, в котором она спрашивала о переплете "Царства божия" и пишет, что если он скоро не приедет, то чтобы об этом ответил. У мепя шевельнулось маленькое подозрение, но мне его стыдно.
8 февраля. Час дня.
Уехал Емельян. Папа повез его в Тулу. Он, видно, полюбил нас так же, как и мы его. Со всеми нами поцеловался, прощаясь. Еще другом больше.
Папа писал Соне, что ему было у ней потому хорошо, что узнал и полюбил ее, а полюбить человека - всегда радость. Емельян говорил, что знал Машу и ждал ее видеть, Во не ожидал, что есть еще Татьяна, которая ему близкая, Это было очень лестно.
За обедом папа сказал, что совсем перестал быть жадным. И разговор зашел о страстях. Папа привел место из Амиэля, где он пишет, что хорошо, когда страсти, как собаки, привязаны на цепь и только рычат. Емельян сказал что-то о том, что надо их ловить и сажать на цепь. А я подумала и сказала, что хорошо, как ты их переловишь да привяжешь, а глядишь, уже новые ощенились. И подумала о том, что во мне ощенилась ревность, которую я никогда до нынешнего года не испытывала.
Сегодня утром приходили ко мне рудаковские мужики, которые покупают часть Овсянникова, и принесли под расписку задаток - тысячу рублей. Мне было ужасно неприятно. Я одна в комнате. Потела, морщилась и ахала. Самый поступок - взять из рук мужиков 1000 рублей, пересчитать их и унести к себе, ужасно было тяжело и неприятно. Я старалась не слишком показывать и рассказывать своим, до какой степени мне это неприятно, а то как будто этим оправдываешься. Да потом, они могут мне сказать, что если это мне тяжело, то зачем я это делаю, и будут совершенно правы. А зачем я это делаю? Я совсем не знаю. И не могу себе ответить на это. Вероятно, потому, что еще очень люблю деньги и то, что на них покупается.
Видела во сне Черткова. Это потому, что вчера говорили о них. Папа хочет со мной съездить туда, но мама, вероятно, нас не пустит.
2 часа ночи.
Приехал дедушка Ге, и мы только сейчас разошлись спать.
9 февраля.
Получила длинное письмо от Черткова, в котором он пишет о том, что мне следует от двух вещей отделаться - это от собственности, которая перешла мне вследствие ошибки папа, и от нарядов. Кроме того, советует посвятить несколько дней на то, чтобы сблизиться с мама, и в минуту наибольшего взаимного смягчения, кротко и осторожно, но твердо и без недомолвок высказать ей то, что вы перед богом думаете об ее неуклонном противлении богу в вашем отце. Он пишет, что отнюдь не осуждает меня, а считает, что всякий должен в глаза высказывать другому свои суждения о его поступках, что можно было самым решительным образом утверждать, например, то, что Леве не следовало идти в солдаты и Хилковой подавать двусмысленное прошение. Я с ним не согласна. И то, что он пишет обо мне, мне было как-то больно и неприятно читать, точно кто-то насилует начинавшее рождаться сознание. Как если бы при нормальных родах насильно тащили бы ребенка из матери. Или мне было неприятно, что меня осудили в том, в чем я сама себя обвиняю, но что стараюсь забывать?
Нет, осуждать или обличать друг друга нельзя. Разве можно осудить Леву или Хилкову за то, что они сделали? Можно только сказать, что их поступки значили то, что они слабо верили, а требовать от человека, чтобы его поступки были выше его сознания, нельзя. Мне кажется, что можно вообще сказать, что, например, служить в солдатах - дурно, а никак не сказать, что Леве следовало отказаться от воинской повинности. Отчего тогда не требовать от каждого солдата, чтобы он отказывался от службы? И от Хилковой нельзя было требовать, чтобы она не писала этого прошения, если ее совести это не было противно. Да, еще я думала то, что о тех работах, которые зарождаются в человеке, не следует говорить, потому что как будто берешь на себя обязательство перед людьми, которое потом совестно не исполнять.
Это не значит, чтобы меня письмо Черткова раздражило, напротив: я чувствую, с какой любовью и осторожностью оно написано, и кроме хорошего чувства к нему, у меня не может быть ничего. Я только думаю, что он не прав.
Вчера вечером ко мне вошел Хохлов и все собирался что-то сказать, потом решился и сказал, что он считает нужным мне сказать, что я утром дурно поступила, поручивши Поше написать за меня расписку в получении 1000 рублей от мужиков, что не следовало скрыть от себя дурной поступок тем, чтобы поручить другому это сделать. Удивительно, что у него такие строгие требования и к другим, и к себе, а что он самых первоначальных не исполняет: как папа говорит, хоть бы то, чтобы не быть другим в тягость.
Я все ловлю себя на том, что постоянно хочется перестать быть строгой к себе, а тут еще дедушка Ге, который с азартом проповедует то, что он любит слабеньких, и папа туда же говорил, что он любит пьяненьких, потому что они смиренны и униженны. Поша, который позволяет себе размякать при Маше, заставляет нас петь романсы в два голоса, не отходит от нее, смотрит ей в глаза и млеет. Дедушка кричит, что надо жить, надо любить, надо обмирать при виде красоты, что это бог, то есть красота. А что он ненавидит людей, которые говорят нравоучения вроде: "Братья! Перестанемте есть мясо!", которые совершенства; что этих надо на церковные стены приколачивать вместо образов. Говорит, что для него восторг, когда он видит молодую девушку и рядом человека, который ее любит. Я знаю, что многое он говорил из красноречия и для того, чтобы поразить Марью Александровну, которая ахала и кричала: "Какая мерзость!", но многое из этого он действительно думает, а в некотором он прав. Именно в том, что говорил папа, что одни рассуждения без внутреннего влечения ничего не стоят и ни к чему другому не приведут, кроме фальши. Будете вроде того человека, который взял больного, чтобы ухаживать за ним, делать доброе дело, и доконал его до того, что он просил его бросить, дать хоть умереть, но оставить в покое. Из этого не следует, чтоб не стараться совершенствоваться, распуститься и отдаваться своим инстинктам. Я постоянно радуюсь о том, что около меня стоит человек, который так беспощадно строг к себе и который меня этим же заражает. Очень люблю его и люблю хорошо, так, как папа вчера говорил о своей любви к Леве: что малейшее изменение его внутренней жизни, взглядов ему чувствительно. Он следит за ним и видит всякое колебание, и ему больно за отступление и радостно за приближение его к истине, но что о его физическом состоянии он совсем не думает и не может заботиться. И говорил о том, что есть другая любовь, которая заботится о том только, чтобы человек был здоров, одет, сыт. Иногда эти два рода любви сходятся, но следовало бы ко всем относиться так, как он к Леве. Потом засмеялся и говорит: "А вот меня огорчает, что у Тани зубы падают".
Еще можно к этому прибавить, что при первом роде любви почти все равно, здесь ли этот человек или нет и разлука - внешняя - с ним не пугает, а при втором роде хочется не расставаться, видеть и слышать его. Во мне хотя маленькая доля этого второго сорта и примешалась, но я ей охотно пожертвую и жертвовала для того, чтобы сохранить его душу чистой. Мне стало хорошо и радостно думать о нем, и если так будет продолжаться, как теперь, то нам не следует искусственно бросать друг друга. Что он думает? Если со временем мы перестанем быть дороги друг другу и он перестанет быть мне нужным, то это сделается само собой. Но надо помнить, чтобы не испортить ничего требовательностью, избави бог,- ревностью или чем-нибудь подобным. И надо помнить, чтобы не ждать от него много помощи, что все-таки надо жить одной с богом и не позволять себе, как говорит Мопассан: "cette illusion de n'etre pas seul"*, которую дает любовь.
* (Самообольщение, что ты - не одинок (франц.).)
Вчера в Derrick Vaugham, который я перевожу, один из действующих лиц говорит, что it is true that once in a life at any rate we have all to go into the wilderness alone*.
* (Это правда, что, по крайней мере, раз в жизни, каждому из нас придется одному войти в пустыню (англ.).)
10 февраля.
Сегодня в 7 часов утра кто-то открыл мою дверь, не затворил и ушел. Я вскочила. Оказалось, Петр Васильевич принес телеграмму, пересланную нам из Москвы Трегубовым от Цецилии Хилковой: "Умоляю Льва Николаевича приехать, он один может спасти дело". Я побежала к Маше, мы обе надели халаты и пошли к Поше с дедушкой, которые оба еще не вставали. Стояли за дверью и переговаривались. Нас очень взволновала эта телеграмма. Мне сейчас же пришло в голову, что папа поедет и я с ним, потом подумала, что если Маша захочет ехать, то я уступлю ей, а потом подумала, что мы можем и обе ехать. Оказывается, Маша думала то же самое. Когда папа у себя заворочался, мы пошли к нему. Он сказал, что ехать, не зная зачем, не следует, и послал телеграмму, чтобы ответили в "Посреднике", для чего он нужен*.
* (Телеграмма Толстого неизвестна. Ц. В. Винер-Хилкова просила Толстого приехать в Петербург, потому что пастор А. Френсис брался хлопотать о возвращении отнятых у нее детей, но ставил условием, чтобы ему разрешили их окрестить. 16 и 17 февраля пастор беседовал с Толстым в Москве (см. т. 67, с. 38-39). )
Сегодня опять Хохлов приходил меня обличать за то, что у меня есть деньги, и убеждать в том, чтобы я от них отделалась. Я на него не сердилась, но очень спокойно сказала, что каждому надо решать за себя, а другому диктовать его поступки нельзя. Он сказал, что его совесть мучает за мой поступок и что он чувствует себя виноватым за меня. Я сказала, что он может быть покойным.
Приехала Холевинская. Папа за ней ездил. Я ее мало видела, да она уже устала сто раз рассказывать всем про свой арест, а нам рассказала Маша.
Мне как-то страшно вперед жить. Чувствуется, что переживаю значительное время, и надо идти в жизни осторожно, строго и серьезно.
Разбирала старые письма разных людей к папа для того, чтобы хилковские письма отобрать для Черткова*, и набрела на письма Жени. Хороший он был юноша - горячий, страстный, чуткий.
* (Вероятно, для книги: "Похищение детей Хилковых". Материалы, собранные В. Чертковым, изд. "Свободного слова", Christchurch England. 1901. )
Завтра в Москву. Рада буду видеть Веру и Женю. Женю немножко страшно. Что-то теперь будет? Неужели я после всех уроков не сумею быть разумной?
11 февраля 1894.
В вагоне. 3 часа дня. Ничего особенного не хочется писать, только пишу потому, что больше нечего делать. Сегодня чудный день. Я ехала с Пошей в маленьких санях, папа верхом, Маша и дедушка в парных санях. Солнце припекало, много снегу, дорога прекрасная. Мне было жаль, что Поше хотелось больше ехать с Машей, а ему пришлось ехать со мной. Мы разговаривали с ним очень хорошо. Мне с ним всегда хорошо, иногда скучнее, иногда веселее. Я только стала меньше его уважать, чем прежде: он более слабый и легкомысленный, чем прежде мне казался.
Прожили мы очень хорошее время в Ясной, хотя не занятое - все вместе сидели. Но много говорили и много значительного, серьезного, нужного. Одно все время меня огорчало, это что Женя не с нами; не для себя, а для того, чтобы он участвовал в этих разговорах и слышал их. Емельян, Булыгин, Холевинская, Ге, Поша и папа над этим всем, спокойный, не утомленный, а с ясной, свежей головой и хорошо, энергично настроенный. Хорошо было, одного его не хватало.
16 февраля 1894. В вагоне между Смоленском и Варшавой по дороге в Париж.
Три дня тому назад и в мыслях не имела ехать в Париж, а вот пришлось. Получили рано утром телеграмму от Левы на мое имя приблизительно такого содержания: En recevant depeche viens a Paris m'emmener Russie. Rien de grave, memes rechutes; pas le courage de partir seul. Explications par lettre. Viens vite. Telegraphiez*. Мы с Машей первые получили эту телеграмму и, как в Ясной при получении телеграммы от Хилковой, взволновались до того, что животы заболели, надели халаты и побежали будить папа с мама. Папа, как и тогда, нас окатил холодной водой, сказав, что ехать мне безумно, что Лева сам раскается в том, что выписал меня, так же как и в том, что брал с собой доктора, что мне одной ехать нельзя, что надо подождать. Мне же казалось, что, напротив, нельзя не откликнуться на такую телеграмму и что я всю жизнь буду себя упрекать, если не поеду. Порешили сделать запрос Саломону о Леве и получили в тот же вечер его ответ: Vois Leon chaque jour. Ne vous inquietez pas,mais venez vous ou une de vos soeur's. Humeur changeante, ne peut supporter isolement; surveillance desirable pour soins materiels. Ne peut partir seul. Telegraphierai si nouveaux. Lettre suit**.
* (По получении телеграммы приезжай в Париж перевезти меня в Россию. Ничего серьезного, те же приступы. Не решаюсь ехать один. Подробности письмом. Приезжай скорее. Телеграфируйте (франц.).)
** (Видаю Льва ежедневно. Не беспокойтесь, но приезжайте вы или одна из ваших сестер. Настроение неустойчивое, не может переносить одиночества. Желательно чье-либо присутствие для физического ухода. Ехать один не может. Если будет что-либо новое - протелеграфирую. Письмо следует (франц.).)
После этого уже папа не стал меня отговаривать, но говорил только, что ждет все верхового с помилованием. Помилование не пришло, и вот вчера меня и отправили. Провожали меня: мама, папа, Миша, Коля Оболенский и Дунаев. Взяли билет, посадили меня в дамское отделение 2-го класса, в котором я оказалась совсем одна; рядом в мужском отделении двое мужчин. Я все время не робела, но только после третьего звонка душа упала. Страшно было оставлять своих стариков, которые оба на ниточке висят, и потом оба они так за меня тревожились, что и меня заразили - не за себя, а за них же. Меня даже удивило, что папа так беспокоился. Когда поезд отошел, 10 1\2 часов вечера, я вошла в свое отделение. За мной вошел кондуктор и стал мне ломаным русским языком что-то говорить, прибавляя поминутно "ваше сиятельство" и распространяя сильный запах вина. Потом спросил мой билет и положил его в карман. Я думала, что он мне отдаст его, и спросила его назад, но он, почему-то посмеиваясь, сказал, что билет будет у него. Потом он предложил мне перейти в другое отделение 1-го класса и хотел нести мои вещи. Я совсем струсила, стала говорить ему уходить, но он посмеивался и говорил мне, что зачем мне ехать во 2-м классе, когда у меня билет 1-го. Я испугалась своего страха, заставила себя подобраться и строго и решительно спросила его показать мне мой билет и нужно ли оставить у него. Оказалось, что он прав. Я перешла в 1-й класс, потому что там рядом были две дамы и, спросив у них, отдали ли они свои билеты и узнав, что да, успокоилась и стала устраиваться на ночлег. Оказалось, что мы с папа нечаянно взяли вместо второго 1-й класс.
Ночью сперва было жутко, казалось, что кто-то стучался в дверь, но потом заснула. Было очень жарко и душно. Утром встала, оделась, умылась (все тут так удобно устроено), пила кофе в вагоне, потом читала Maxime Du Camp "Crepuscule"*, много умного - и "Amants" Paul Marguerite**. В Смоленске час стояли. Я ходила гулять. Разговорилась с нищим, который ползает на руках и на коленках, так как у него с трех лет высохли ноги. Неграмотный, живет милостынью, умеет только лапти плесть. Говорит, что не пьет, и, пожалуй, правда - сильное свежее лицо. 25 лет. Снегу здесь мало, народ - бабы одеты иначе, но розвальни, лошади, в Смоленске городовой, бьющий извозчика (как меня это всегда взрывает!), все это такое же, как в Москве. Рисовала сама себя в зеркало, а теперь пишу, так как больше делать нечего.
* (Максима Дюкан "Сумерки" (франц.).)
** ("Любовников" Поля Маргерит (франц.).)
Надо про Женю записать. Приехавши в Москву, ждала его в тот же вечер (думала, что принесет оставшиеся у него мои ключи), потом утром, потом днем, а он пришел только вечером. После обеда я пошла заснуть, потому что знала, что рано не лягу, ждала гостей - суббота была. Потом, проснувшись, пошла вниз в свою комнату совсем заспанная - он там был с дедушкой Ге. Я смотрю на него и не вижу и долго ничего не могла понять. Что-то странное - будто я ни одной минуты не переставала его видеть, и вместе с тем что-то неожиданное. Как всегда, когда я его долго не вижу, я не могла сразу привыкнуть к нему, потом понемногу обошлось. Говорили с ним много, но не об себе. На другой день ходила с ним, с Пошей, Машей и девочками Толстыми смотреть картину Ге. В конке он такой был жалкий. Закрыл глаза - бледный, худой, измученный. Я с Машей переглянулась и говорю: "Как плох Женя". Она посмотрела и говорит: "Очень!" У него нарыв на руке, и от него лихорадка. Он говорит, что он очень плошал, иногда даже на несколько секунд терял сознание. Слаб стал невыносимо. Домой мы пошли с папа и Ге, а он ушел один. Вечером мы с Машей зашли в "Посредник". Он спал, так как ночей не спит. Потом шум его разбудил, и он позвал меня. Я пошла к нему, и мы с ним разговаривали. Я сейчас не помню, что мы говорили, но помню, что любила его изо всех сил, нежно и радостно. У меня совсем пропало желание разорвать отношения с ним, и пропал страх за то, что из этого выйдет.
Вчера перед обедом заходила проститься с ним. Он был очень ласков и мил. В то время как мы разговаривали, пришла Екатерина Ивановна. Мы поговорили вместе, потом я простилась и пошла.
Он пошел за мной, и на лестнице мы еще говорили. Он сказал мне, что боится, что для нас наши отношения не имеют одинакового значения, что для него моя привязанность - радость, большая радость, но и только. Я сказала, что я это знаю, что это меня нисколько не огорчает. Он говорит, что думал обо мне недавно и думал, что он мне совсем не нужен, потому что уже давно между нами не было никаких значительных разговоров. Я думаю, и сказала это ему, что не может человек всегда быть нужным и особенно советом или поддержкой. Радостно знать, что когда понадобится, есть человек, который всегда протянет руку помощи. А кроме того, присутствие Жени или всякое свидание с ним, хотя мы друг другу слова не сказали, всегда заставляет меня быть строгой и правдивой. Да и не могу я его не любить и не благодарить за то, что он так помогал мне, и если даже никогда больше не увижу его, будет еще вперед помогать. Мне не особенно было жаль уезжать от него. Все остается со мной. Потом буду скучать о нем, это я знаю. Написала ему, Вере Толстой и Лизе Олсуфьевой в Ниццу.
17 февраля 1894.
Подходим к Варшаве. Две ночи уже переночевала в вагоне. По вечерам чувствую возможность затосковать и испугаться. Вчера в Минске стояли 40 минут. Я выходила. Темно, мокро, кишат евреи, и все чужие и равнодушные. Ни с кем за два дня, кроме кондуктора, который отрезвился и вежлив, не сказала ни слова. Это потому, что в 1-м классе; в 3-м давно завелись бы друзья. Прочла "Amants" Paul Marguerite. Талантливо, но так развратно, что я жалею, что читала. Надо запретить себе читать французские романы.
Что-то делается в Москве? И что Лева? В Москве жаль было оставлять тоже Ге. Я его люблю. Я, как все, перешла с ним три степени: 1-е - страстное увлечение, 2-е - осуждение в неискренности и лицемерии и отчуждение от него и 3-е - не то что прощение, а признание некоторых его слабостей и рядом с ними огромных достоинств. Он привез картину "Распятие", которое производит на всех громадное впечатление*. Два креста и не креста, а Т, третьего не видно. Так что Христос не в центре картины, а центр находится между ним и разбойником. Представлена та минута, когда Христос умирает. Уже это не живой человек, а вместе с тем голова еще поднята и тело еще не совсем ослабло. Разбойник повернул к нему голову, и, видя, что этот человек единственный, который когда-либо сказал ему слово любви, умирает, что он лишается этого друга, которого только что приобрел, он в ужасе и у него вырывается крик отчаяния. Это очень сильно и ново. Оба распятые человека стоят на земле. Разбойник не пригвожден, а прикручен веревками. Он очень хорошо написан, но я должна сказать, что на меня это не произвело сильного впечатления. Мне это жаль. Это потеря свежести, душевной впечатлительности. Папа расплакался, увидав это, и они с Ге обнимались в прихожей и оба плакали. Женю тоже не пробрало. Странно. Что действует на душу? Почему есть вещи - иногда незаметные мелочи,- которые так и ударяют в самое нутро, всё переворачивают, поднимают, возбуждают, умиляют? Вот на Женю разговор с городовым так подействовал. Мое последнее сильное впечатление была Цецилия**. Раскаяние за свою раскошную веселую жизнь (она была у нас в день, когда у нас готовился вечер), за свое безучастие к людям, жалость к ней и огромное желание - от всего сердца - прощения тем людям, которые так жестоко поступают с ней. Это было вот как: целый день я суетилась из-за вечера. Мама поручила мне делать котильон, а Маклаков и Цингер сидели у Коли Оболенского во флигеле и устраивали маскарад, в котором просили меня помочь им. Это мне было скорее весело, и я бегала и крала папашину блузу, носила им фотографии тех людей, под которых они гримировались. И вот раз, пробегая мимо передней, я увидала, что сидит женщина на ларе. Я прошла мимо, и во мне шевельнулась досада, что папа не оставляют в покое. Подумала, что какая-нибудь профессиональная просительница, и еще раз прошла мимо. Потом подумала, что нехорошо так проходить мимо человека, которому, может быть, действительно что-нибудь нужно и который, может быть, в горе. Я подошла и спросила: "Вы к Льву Николаевичу?" - "Да".- "Его дома нет. Вы его подождете?" - и не знала еще, что сказать, и ушла. Потом подумала, что надо куда-нибудь провести ее, а то нехорошо, что она в передней ждет. Пошла, а там мама с ней разговаривает, и я вижу, что мама добро, участливо говорит. Я и успокоилась и ушла, опять за свой маскарад принялась.
* (Над картиной "Распятие" Н. Н. Ге работал очень долго. Закончив ее в конце января 1894 г., выставил в Москве в небольшой частной мастерской на Долгоруковской ул. Увезенная художником в Петербург на выставку, картина была снята по распоряжению президента Академии художеств - великого князя Владимира Александровича. )
** (Ц. В. Винер-Хилкова посетила хамовнический дом Толстого 2 января 1894 г., направляясь в Петербург, чтобы подать прошение о возвращении ей отнятых детей. См. т. 67, письма № 1, 2, 3, 28, 42. )
Когда мы начали обедать, мама говорит: "Знаете, кто это был? Цецилия". Я сразу вскочила со стола, убежала в свою комнату и начала рыдать как сумасшедшая. Я ее так ждала, так много о ней думала, так жалела ее и вот, когда она пришла, я три раза мимо нее прошла с цветами и лентами и всякими пустяками. И поднялось такое раскаяние в том, что я так безучастно отнеслась не именно к ней, а вообще к человеку. Ведь могла быть другая женщина, которую бы я не знала, которая была, может быть, в таком же горе, и я бы прошла мимо и не узнала бы об этом. И умиление, и жалость к ней и к ее гонителям, и стыд за себя - все это поднялось в душе.
Мама не спросила, где она остановилась, и я побежала в "Посредник" узнать, не знают ли они чего о ней, и хотелось к Жене. Но я ничего не могла ему рассказать, слишком во мне все клокотало и раздиралось и плакать хотелось. Он, конечно, ничего не понял. Минуту мне это было горько, но потом я сказала себе, что не может же он в самом деле насквозь меня видеть, да и тут ни в чем он мне помочь не мог бы. Да мне и не надо было помощи, мне надо было, чтобы меня по голове погладили. Это сделали Вера и Маша.
Веры не было в Москве, когда я приехала,- это было большое разочарование. Когда-то теперь увидимся?
Оставила свой последний дневник Жене, и это меня немного тревожит. Он подумает, что я очень самоуверенная. И глупая. Ну, что делать. Я от него ничего не хочу скрывать. Он - удивительно порядочный человек; я чувствую, что вполне могу ему вся довериться. Откуда это? Это не воспитание - это благородная, чуткая душа, которая родилась с ним вместе. Вот чего не надо давать ему читать, я и так балую его.
Он отдает мне все свои письма и дневники, чтобы они были сохраннее, между прочим и мои, и я думаю, что он делает это тоже отчасти бережа меня. Какой он был мальчиком? Надо велеть ему принести показать мне свои прежние портреты,- вероятно, у матери его есть.
В Варшаве жду телеграмму из дома.
Этот дневник будет страшно скучный, мне будет скучно его перечитывать, потому что я пишу не потому, что мне хочется, а потому, что делать нечего - читать все время невозможно.
Со мной дневник Жени. Это - как кусочек его самого. Как он далеко вперед от меня ушел. Надо всегда помнить, чтобы не тянуть его назад. Кажется, я этого не делаю? А ему не следует отказываться помогать мне, да и всякому, кто позади его.
Варшавский вокзал.
Ездила на почту, получила от своих телеграмму, что у них все благополучно.
Город уже похож на европейский. Шорная упряжь, запах каменного угля, который всегда особенно сильно напоминает мне Европу, польские церкви, иностранный говор. Природа до Варшавы скучная - болота и поля или болота и сосновые леса. Снегу почти нет, кое-где только по канавкам белые полосы.
Сейчас ела яичницу в общей зале и любовалась на продавщицу у буфета. Прехорошенькая: матовая, бледная, губы красные, красивый лоб и волосы волнистые, пепельного цвета, назад зачесанные. Голос детский. Хотелось с ней заговорить, думала о ее судьбе, угадывала ее характер, и все потому, что она красивая. Экая несправедливость! Но потом я увидала, что она перемигивается с лакеем, и мне перестало хотеться говорить с ней. Хорошо, что я не мужчина, а то я постоянно бегала бы за красивыми женщинами. Женская красота на меня сильнее действует, чем мужская. Мужчина редко может привлечь меня своей красотой, и я не люблю мужской красоты саму по себе. Я же знала Женю сколько лет и не радовалась на него, пока не узнала его душу. Теперь меня иногда радует чистота линий его головы, но это мне совсем не важно.
Любя так красоту, мне оттого и бывает так неприятно сознавать, что я старею и дурнею. Мне не нужна свежесть и молодость для каких-нибудь флиртов, а просто потому, что я знаю, насколько все: старики, дети, женщины, мужчины - ласковее и добрее относятся к молодому и красивому существу, чем к старому и безобразному.
Чувствую все время запрятанную в себе тоску и страх и боюсь выпустить их наружу, а то это будет ужасно. Сижу одна в зале 1-го класса и пишу. Мой поезд в 5, теперь 3. Уже русского говора давно не слыхала, вокруг говорят по-польски, и я ничего не понимаю. И все безучастны и равнодушны. Положим - так же и я к ним.
Ехавши с того вокзала на этот, переезжала по огромному мосту через Вислу. По мосту шла толпа бродяг, и вокруг несколько городовых. Везде то же самое. Отвратительно смотреть.
Вывески все тут до одной по-русски и по-польски. Распоряжение ли это начальства? И что? То ли, чтобы вывески все были написаны по-русски, а поляки с настойчивостью пишут их и на своем языке? Или велено на обоих языках писать? Русские церкви рядом с польскими костелами. Все это производит тяжелое впечатление - видно, насильно, грубо вонзились завоеватели и, где и в чем могли, завели свои порядки. И, видно, утонченная Польша уже сдается под этим грубым гнетом, но ненавидит своих угнетателей.
Сейчас вошла красивая женщина. Какая у них походка! Уверенная и веселая.
В вагоне.
Как польки красивы! Мне стало весело. Поговорила с двумя немками, моими спутницами из Москвы, и стало на душе легче, а главное, видела целую компанию красивых, элегантных поляков. Женщины - три их, и каждая в своем роде красива. Все хорошо - со вкусом - одеты. На меня пахнуло Сенкевичем.
Женя прав бояться за меня. Это пьянство красотой и роскошью всегда может сбить меня с рельс. Ох, как целуются поляки! Сейчас в коридоре такое чмоканье беспрерывное, только между чмоканьем какие-то нежные слова и опять взасос с каким-то привизгом.
У всех моих полячек свежие цветы в руках: у одной пук ландышей, у другой сирень, у третьей гвоздика, Да, утонченный народ.
Со мной поляк с женой и сыном. Окна большие, светлые, просторное купе. Довольно весело на душе.
Александров.
Граница. Сейчас ходила по платформе и заглянула на небо. Звезды все такие же, как и везде. Здесь взяли паспорт, переменили поезд. 10 часов вечера. Из Варшавы сюда ехала в купе с польским семейством. Много разговаривали. Они рассказывали мне историю убитой Висновской, рассказывали о притеснениях русскими поляков. Брата этого молодого человека, который со мной разговаривал, выгнали из гимназии за то, что он в классе говорил по-польски. Польскому языку ни в одном заведении не учат. Вывески приказано все писать по-русски. С немками своими встречаюсь дружелюбно, перекидываемся иногда словом и улыбаемся друг другу. Я опять одна в дамском отделении и сосед тот же, что из Москвы, и дверь не запирается. Ела в Александрове какую-то очень сладкую морковь и очень кислую капусту.
18 февраля. В вагоне между Берлином и Кёльном. 10 часов утра.
Ночь плохо спала, боялась проспать. В Берлин приехали без чего-то 7 и через час уже поехали дальше. Я взяла второй класс до Парижа. Теперь у меня новая спутница. Своих немок и поляков оставила в Берлине. Поляки рассказывали мне про Сенкевича. Разговаривала с ними о вегетарьянстве. Они говорят, что в Варшаве много вегетарьянцев. Но они, видно, в этом отношении непрошибимы. Они купцы, мало интеллигентные. Сын еще немного пообразованнее. Рассказывали, как поляки ненавидят служить, т. е. отбывать воинскую повинность, и как очень многие от нее бегут за границу.
Видела в Берлине красивую англичанку. Всегда узнаю англичанку по какой-то чистоте, которой озарено лицо: это особенно заметно в бровях и висках - как волосы растут. Странно, что формы выражают душевные свойства, но это так. Чуть-чуть приподнятая бровь, чуть-чуть выдвинутый подбородок, незаметная складка у губ - и по этому составляешь себе представление о характере человека.
Думала вчера вечером о себе с унынием. Ничего во мне нет. Нет той непосредственной доброты и любви, которая все озаряет и украшает, с чем только соприкасаешься, и нет достаточно разума, чтобы понять раз навсегда, как выгодно жить. Чертков прав - мало во мне христианского духа. Редко я чувствую его присутствие, и когда он поднимает меня, то ненадолго, и опять я опускаюсь на свою языческую ступень, на которой всегда нахожусь, с любовью к себе и красоте, с эгоистической, жадной привязанностью к людям.
Почему Женя на меня радуется? Что между нами общего? Я постоянно боюсь, что он это увидит и откажется от меня.
Сейчас разговорилась со своей спутницей. Молодая немка - невеста, образованная. Говорила по-французски. Сначала о природе, о России, о меланхоличности русской природы, которую она чувствовала, читая "Войну и мир" Толстого (я сохранила свое инкогнито), о русском народе, голоде, спрашивала о причинах его. Я все рассказала ей. Она сказала: "Oh, je ne voudrais pas etre proprietaire en Russie"*. И опять мне шибнуло в нос то, что я, видя и умея рассказать все причины бедствия русского Народа, остаюсь участницей в них. Я ей ответила: "Oui c'est une croix"**. И продолжали разговор о собственности. Она - умная и возражала умно, и не задирала, и не ловила на словах по-женски. Перешли к войне, патриотизму, церкви, государству, и я радовалась именно тому, что ясно и искренно могла выражать то, что действительно чувствовала всем сердцем. Говорили вовсю, и несколько раз у нас обеих были слезы на глазах. Я даже забыла, где я, куда еду и, посмотревши в окно, подумала: что это? Где это? Русская осень. Леса, дубы с сохранившимися еще сухими листьями, голые березы, ели, сосны. Потом вспомнила и спросила себя: могу ли я сейчас жалеть о том, что я стала стара и дурна? и ответила себе - нет, конечно.
* (О, я не хотела бы быть русской помещицей (франц.).)
** (Да, это - тяжкий крест (франц.).)
Может быть оттого, что только перед этим читала "удивительную маленькую книжечку", как говорит дедушка Ге.
Ах, что-то Лева? Подъезжая ближе к Парижу, думаю о нем больше. Боюсь за него и боюсь за себя, что не буду достаточно кротка и умна.
5 часов. Моя немка ушла. Мы расстались друзьями, близкими людьми. Проехали Вестфалию. Красивые места - горы, леса. Снегу ни помину, окна открыты, солнце, весной пахнет.
Я сильно простудилась. Всю грудь завалило, трудно дышать, кашляю, и все горло расцарапано. Постоянный сквозняк: окна и двери отворяют.
Я, как всегда, и более чем всегда, пугаюсь всякой болезни и сейчас же представляю себе, что это серьезно и что я умру. Это стыдно, и я себе говорю: ну, что ж, ну дифтерит, ну горловая чахотка, ну умру. Ведь я так часто желаю умереть. Но сейчас мне кажется, что именно не теперь, за границей, одной. И я себе представляю, кто приедет ко мне или я поеду умирать домой, и страшно жалко себя. Это я себе вымыла грудь и спину очень холодной водой сейчас после сна, вспотевши. Как глупо! Как глупо, что я еду за Левой ходить, а сама заболела. Надо будет на обратном пути очень упорно за ним следить, чтобы он не простудился.
Села ко мне немка с ребенком; мальчик лет 3-х, очень несимпатичный, похожий на обезьяну: сплошные черные глаза, близко друг к другу. Как она его посадила, так он и остался, а она достала ему четыре катушки, которыми он сейчас же занялся, перематывая голубые нитки с одной на другую с самым тупым видом.
Как грудь все больно! И уши болят. И зубы, и откашляться невозможно. Как несносно и как глупо. А может быть, хорошо? Может быть, это-то и нужно?
Проехали какой-то городок: каменный уголь, трубы, кирпичи, дым, свист. Я подняла окно уже давно, а вновь прибывшая дама спустила его с своей стороны, и мне так и свистит ветер в ухо, которое болит. А стыдно попросить поднять. Она давно уже переглядывалась, вздыхала и утирала потное лицо.
Моя немка девушка (Wanda von Maertz)* мне как-то сказала: "Vous etes chretienne, meme en voyage"**, и я поддержу ее мнение, хотя ей сказала, что далека от этого.
* (Ванда фон Мерц (нем.).)
** (Вы - христианка, даже во время путешествия (франц.).)
Отчего мне скучно говорить о вегетарьянстве? И не кажется важным? Мы с Вандой обо всем говорили, а этот вопрос я умышленно обходила. И только когда мы пошли с ней обедать и я не могла сама спросить себе овощей, то заговорила с ней об этом, и я не распространялась, только ответила ей на ее вопросы.
Фу, как стыдно, что я думала о возможности умереть от этого пустого нездоровья! И стыдно, что это меня беспокоит. Ну, умру так умру. Будут жалеть меня, но никто ничего не потеряет. Вот и будет решение всем вопросам. Женя? Это, может быть, и есть то самое, что для него и для меня нужно.
Жаль будет оставлять папа, мама, Машу, Веру, Сашу - мало ли кого, но это неизбежно. Или их оставить, или они уйдут и меня оставят. Первое легче.
Какие огромные экипажи и тяжести здесь таскают люди и лошади.
Зеленя уже вершка в два, капуста на корню, еще какие-то овощи, земляная груша. Дороги совсем сухие местами. Дети на дворе играют без шапок, в одних платьях и фартуках. У моей спутницы ландыши и фиалки, которые чудно пахнут. Мальчик развеселился, и мать спрятала катушки. Но я его не полюбила.
Дюссельдорф. Через час Кёльн. Опять трубы, дым, копоть.
Кёльнский вокзал. Через час еду дальше. Ходила в город, купила фуфайку, 2 горчичника и каких-то лепешек от кашля, потом смотрела снаружи собор (какая красота, грандиозность, стройность), купила фиалок и вернулась. Пью вторую чашку горячего молока, но не легчает, дышать трудно. Надо же мне было в этой продувной комнатке, потной, до пояса раздеваться и мыться. Я чувствовала наслаждение, но тоже и то, что это мне даром не сойдет. Кажется, жар. Написала домой.
Волнуюсь при мысли о том, что увижу Леву. Что меня ждет? Чувствую, что эти годы для меня должны принести какую-нибудь перемену. Смерть? Опять, как глупо. Как мне будет стыдно перечитывать это.
20 февраля по-нашему. По-ихнему 4 марта. 11 часов утра. Париж 41, Rue des Ecoles.
Вчера утром на вокзале меня встретил Бобринский Владимир и привез сюда. Вошли на третий этаж, постучались. Бобринский вошел вперед, и Лева сейчас же спросил его: "Не приехала?" - "Нет, приехала". Я вошла. Он в постели, обнялись, поцеловались. Он, пожалуй, не хуже, чем был осенью, но очень жалок, терпение все чаще и чаще изменяет ему. Димир по дороге с вокзала рассказывал, что он был в ужасном состоянии отчаяния: плакал, роптал и отчаивался. Мне он сказал, что если бы у него был револьвер, он, наверное, убил бы себя. Я думаю, что он этого никогда не сделал бы и не сделает, но могу легко перенестись в его состояние. Это очень тяжело покориться с тем, чтобы ничего не мочь делать, не мочь жить, когда этого со всех сторон так хочется и когда 25 лет. Дают ему пропасть лекарств, которые только вредят, но которые в первую минуту ему показались благотворными. Я возьмусь строго и систематично выхаживать его - посмотрим, что из этого выйдет.
Я думаю, что из всех близких мне это будет легче всего.
С ним тут все очень добры, Саломон ходит всякий день. Вчера был, принес мне цветов. Опять целовал руку. Не знаю, сказать ли ему, что это неприятно, а может быть, он думает, что это русский обычай и с моей стороны будет ridicule* это замечать. Он очень прост.
* (смешно (франц.).)
Приходила Кашперова. Она уже три дня приходила к Леве, варила ему кашки, жарила котлеты и всячески ухаживала. Это очень добро с ее стороны, но Леву это стесняет и даже раздражает.
Париж мне показался не таким праздничным и элегантным, как прежде. Это оттого, что мы живем в неэлегантном квартале, что в тот мой приезд была выставка, и потому, что тогда я приезжала веселиться и Олсуфьевы были с нами*.
* (Татьяна Львовна ездила со старшим братом в Париж в середине сентября 1889 г. на VIII Всемирную выставку. 21 сентября Толстой писал им в Париж: "Желаю вам <...> не торопиться, и не зевать, и главное держать себя в порядке, не объедаться, не уставать, не делать эксцессов никаких. Главное же, уважать все неизвестное и доходить до конца" (т. 64, с. 306).)
Димир Бобринский трогателен. Живет в этих скверных меблированных комнатах, панталоны у него с бахромой внизу, никого не видает и учится, учится изо всех сил.
22 февраля\6 марта.
Тогда прервал меня Лева. Много впечатлений. Когда это? Третьего дня? - получила длинное письмо от Жени. Ужасно волновалась и радовалась ему, Вообще же думаю о нем спокойно и радостно. Ничего не страшно, не тревожно, не стыдно, так что не могу мысленно вернуться к тому времени, когда мне казалось необходимым разорвать с ним. Почему это? Не знаю. Он спрашивает меня разные вещи, но мне не хочется опять разбираться, дискутировать все снова. Так хочется удержать это спокойствие, которое так приятно, мягко, благотворно действует на душу. Может быть, оттого мне так спокойно, что он в первый раз прямо, откровенно мне все сказал, как и что он думает и чувствует. А то все как будто было такое, что мне было неясно. Очень милый, чуткий он человек, дай бог мне всегда сохранить с ним близость.
Ну, про Париж. Показался он мне гораздо более будничным, чем в тот приезд. Во-первых, тогда была выставка, со мной были Олсуфьевы и мы приехали единственно для того, чтобы веселиться. Теперь он мне показался грязным, с такими же купленными рабами, как и у нас, с угнетенными рабочими, безумной роскошью, и даже здесь это все делается как-то бесстыдно, с большим чувством своей правоты, чем у нас.
Сегодня завтракала у Нины Саломон, потом с ней ходила в "Bon Marche"*, потом вернулись к Саломон, застали там m-lle Герцен, с которой поговорили*.
* (Шарль Саломон - преподаватель русского языка в учебных заведениях Парижа. Перевел на французский язык ряд произведений Толстого. Нина Саломон - его жена. Наталья Александровна Герцен, старшая дочь А. И. Герцена. )
* (Название фирменного магазина (франц.).)
Она спрашивала разные разъяснения по поводу последних книг и мыслей папа, но я не была так свежа, как когда я говорила с Вандой в вагоне, и поэтому чувствовала, что плохо на нее могла подействовать. Она говорит, что много молодежи очень интересуется папа, и вообще всяким религиозным движением, что они люди "с идеалом", как она говорит.
Потом пришла домой. Лева жалуется, охает, говорит, что за завтраком объелся.
В 4 часа за мной заехала одна художница-ирландка, чтобы свезти меня в Atelier Julian. Их 23 ателье в Париже. Там девушки рисуют голого мужчину, чуть-чуть задрапированного, а по углам сидят уже премированные художницы, которым позволяют писать свои картины для Salon. Оттуда она свела меня в ателье одной художницы, которая тоже пишет картину для Salon. Комната наполовину низкая, наполовину очень высокая, наставлены старинные стулья, кресла, накиданы драпировки, повешены китайские зонтики, стоят мольберты. И она сама, в красном шелковом платье, с перьями, кружевами, накрашенная, растрепанная, с палитрой в руке, царствует в этом bric-a-brac'e*. Моя ирландка и она сейчас же затараторили на своем местном художественном жаргоне о предстоящем Salon, о том, что кто говорит, и я с ужасом видела, что это то же движение к effet de lumiere** и всевозможным effets***, которое у нас, к счастью, только что начинает проникать. Они спрашивали меня про русское искусство, но содержанием картин вовсе не интересовались - пропускали мимо ушей, так что, говоря о картине Ге, мне как-то совестно было распространяться о сюжете, и я невольно говорила больше о технике, об исторической правдивости этой вещи. И грустно стало.
* (хламе (франц.).)
** (световым эффектам (франц.).)
*** (эффектам (франц.).)
И еще тоскливо, когда вспомню, что утром накупила на целую кучу денег разных вещей в "Bon Marche". Ужасно стыдно и неприятно и целый день от этого камень на душе... Неужели я никогда не научусь быть разумной?
Лева все плох и ужасно духом низко пал. Избави бог мне его осуждать: я, может быть, была бы гораздо хуже его; но грустно видеть человека, который так снял с себя всякие нравственные обязательства. Часто он опоминается и старается думать не только о своей болезни, но сейчас же опять в нее погружается. И я очень плохая для него нянька. Тоже эгоистичная, не могу вся отдаться его излечению (сейчас вот забыла дать ему лекарство перед обедом), и не умею сохранять бодрость и веселость, когда он жалуется и ноет.
Кроме того, я все еще очень простужена: кашляю, зубы болят, и это меня угнетает. По вечерам иногда на меня находят ужасные страхи, что или Лева, или я не доедем домой, что-нибудь с нами случится.
23 февраля.
Лева все жалуется. Мне трудно и одиноко, но хорошо в самой глубине души.
Сегодня на бульваре Сен Мишель опять собирались студенты, кричали всякие глупости, между прочим чтобы Золя выбрали в Академию, ставили баррикады из разных носилок и тачек, которые находились на бульваре, так как там строят подземную железную дорогу. Полиция их разогнала. Ходила с Левой и Саломоном в мастерскую Falguiere. Впечатление то же.
Зубы, зубы болят изо всех сил. Голову, ухо, всё стреляет. Писать не могу. Лева лежит в кровати и мечтает, бедный, о том, чтобы выздороветь. Жалко его ужасно, но что делать? Я все время чувствую какую-то виноватость, что он болен. Но что же я могу сделать? Ох, зубы!
25 февраля.
Вчера утром решено было вечером, повидавши Бриссо, ехать домой. Я наполовину уложилась, потому что в душе знала, что Бриссо нас оставит. Так и вышло. Он Леву обворожил совершенно и внушил такое доверие, что он решил хоть до осени остаться, вполне ему подчиниться и ждать от него исцеления. Мне это было грустно, так как предвижу, что после первого подъема духа он опять начнет отчаиваться и метаться. Одно хорошо - это что Бриссо строго и систематично собирается повести свое лечение, чего до сих пор ни один не сделал*. Лева, бедный, у него расплакался, и он (Бриссо) был с ним очень участлив и мил. Я понимаю, что он прельстил Леву: в нем очень много обаяния, как у всех психиатров. Энергичное и сильное лицо. Очень черен, вероятно, с юга.
* (Эдуард Бриссо - парижский врач-психиатр и невропатолог. 2 марта Толстой писал: "Бриссо мне нравится. Вот умница!
Хочет пробовать прилаживаться к болезни и организму, имея большой опыт и знания и не имея самоуверенности. Это очень хорошо" (т. 67, с. 59).)
Сначала он сказал, что ему потребуется недели две, чтобы попробовать разные способы лечения и определить тот, который нужен, и я с радостью приготовилась остаться эти пятнадцать дней, потому что, хотя я и не верю в лекарства, я очень верю в уход и в то, что доктор может указать способ ухода. Но потом, когда Лева сказал, что он останется месяца два и больше, то на меня напал ужасный страх и тоска, и я не смела посмотреть внутрь себя, чтобы не начать метаться. Боюсь думать о папа, о Жене, о возможности заболевания кого-нибудь дома, о возможности мне заболеть или умереть Леве или мне здесь, так далеко от своих.
И ужас как много во мне эгоизма: я совсем не умею отдаться другому, мне часто обидно отношение Левы ко мне, когда он забывает, что я не ела, что я устала, что нездорова и т. д. Почти каждый день, когда я готовлю обед или завтрак, он мне говорит: "Зачем так много?" или: "Это зачем?", и мне совестно отвечать "это мне", точно я могу жить не евши. Но я нисколько не сержусь и не досадую на него. Он мне очень жалок, и я рада этому трудному уроку, который мне послан. Дай бог только его исполнить. Здесь в Париже, в capitale du monde*, куда со всех концов земного шара собираются люди, чтобы учиться наукам и искусству, меня поражает сравнительно низкий уровень этих науки и искусства. То, что считается самым выдающимся, так плохо на самом деле. В литературе кроме Рода и Бурже никого нет, в музыке Вагнер, в живописи Пювис де Шаванн, который тот же наш Нестеров, а в медицине Potain ничего не мог новее прописать, как ревень и касторовое масло, а Бриссо - ревень. Видно, люди богами не будут.
* (столице мира (франц.).)
Боюсь, что Женя отвыкнет от меня за это время. Может быть, это и нужно, и может быть, это к лучшему.
На днях переедем отсюда. Тут Леве шумно и беспокойно. Вокруг музыка, за стенами всякое слово слышно, прислуги не дозовешься и вокруг скверные лавчонки, в которых ничего достать нельзя.
Рядом со мной живет незаконный menage*, и я постоянно слышу разные разговоры, ссоры, поцелуи и т. д. Blanche (горничная) рассказывала мне биографию нескольких menages, всегда прибавляя: "Mais ce n'est pas sa femme"** или: "Mais ils ne son pas maries"***, Тут все живет народ рабочий, занятой - приказчики, продавщицы - и вот, проработав день, они приходят домой, и мы с Левой знаем по часам, когда они начнут целоваться.
* (супружеская чета (франц.).)
** (но она ему не жена (франц.).)
*** (они - не венчаны (франц.).)
У французов одна главная страсть - это женское тело. Это видно везде: и в романах, и в живописи, и по тому, как женщины одеваются, это носится в воздухе.
Париж красив тем, что нет ни одного выкрашенного дома. Все выстроены из натурального серого камня. В этом что-то благородное и серьезное. Ходила в "Bon Marche" и видела много красивых женщин. Особенно одну. Потом, проходя мимо зеркала, увидела себя и огорчилась своей некрасивостью. Да, меня это огорчает, иногда больше, иногда меньше, но никогда не бываю к этому равнодушной.
Спрашиваю себя: чем бы я пожертвовала для этого, и отвечаю, что мало чем. Например, вегетарьянство не бросила бы, даже если бы была уверена в том, что это прибавит мне много красоты. Мои руки расцарапаны, обожжены, загрубели, ногти сломаны оттого, что я все делаю сама, но от этого я не заставлю девушек делать то, что могу сама.
С завтрашнего дня начну правильную жизнь по часам. Буду читать, переводить и, когда можно будет, начну рисовать. Коли жить тут, то надо жить с проком. Все эти дни даны мне не даром. Надо спрашивать приказаний и исполнять их.
Получила милое письмо от Лизы Олсуфьевой и ответила ей.
Из дому получаем ежедневные письма.
Здесь я понимаю более чем когда-либо, почему со всего света стекается народ к папа. Нигде нет такого света, как он распространяет, и если где есть звездочки, то они зажглись от него же. Сегодня Лева говорил, что его звали к Золя, но я подумала - зачем к нему идти, что он может сказать нового, интересного и поучительного? И так все знаменитости здешние.
7 часов. Варила Леве кашу и себе кочан капусты, которая не хочет с утра свариться, потом села докончить письмо Жене и расплакалась. Я с утра крепилась, но вот прорвало. Какая гадость эта жалость к себе! Какая я слабая, дрянная.
Перечитывала письмо Жени ко мне. Он делает там вопросы, на которые я ему не ответила. Но я не ответила потому, что не знаю, что ответить. Он спрашивает меня: сознательно ли у меня в дневнике вышли слова, что мы попались в сети и так ли это? Я искренне не знаю. Я теперь не чувствую себя в сетях и никакого не испытываю желания, если я попалась, освободиться от них. Потом он спрашивает: может быть, лучше нам не читать дневников друг друга? Опять не знаю. Хотя я пишу для себя, но думаю, что ничего не буду иметь против того, чтобы он знал мою внутреннюю жизнь, и даже рада показать ему ее. И очень всегда буду хотеть посмотреть в его душу, которую люблю. Еще спрашивает, хотела ли бы я, чтобы без драм вернуться к тем отношениям, которые были у нас 2-3 года тому назад? И опять не знаю, но думаю, что нет.
26 февраля. Утро.
Плохо, плохо. Лева в насморке и кашляет, а этого особенно доктора боятся. Я чувствую угрызение совести, что я заразила его и недостаточно ухаживала и оберегала. Я старалась не есть той же ложкой, мыть ее каждый раз, как я пробовала кашу, но это так неуловимо: хлеб возьмешь руками и через это передашь заразу. И потом, весь Париж кашляет. В нашем garni* только и слышно. И Бриссо не едет. Обещал быть вчера или сегодня. Меня мучает, что я могла минутами роптать; какая я эгоистичная. Я бы сейчас все сделала, чтобы спасти его. Но что? Что можно сделать? И все тут так трудно. Не добьешься, чтобы камин затопили. Вчера купила ему халат и туфли, и их не принесли до сих пор. Главное, я не умею быть ласковой, а этого ему хочется и нужно.
* (меблированных комнатах (франц.).)
Днем. Получила сейчас письма от папа и мама. Читая письмо папа, опять расплакалась, опять захотелось к нему, и поднялся ропот на Леву в будущем - вот что глупее всего,- за то, что когда он будет здоров, он удержит меня здесь. Все это нестерпимо бессмысленно. Надо жить, как птицы небесные, и, главное, не заглядывать и не думать о том, что, может быть, будет. И надо нервы подобрать, а то сделаюсь истеричной и нервной и никуда не буду годна. Ничего тут нет жалостного, умилительного и грустного, что я несколько месяцев проживу вне дома, ухаживая за больным братом. Всякая сделала бы то же самое и гораздо проще и умнее, чем я.
1 марта 1894.
Вчера переехали сюда в rue du Helder*. Взяли три комнатки. Но и тут нехорошо: темно, пыльно и в центре города. Это по рекомендации Бриссо. Будем пока слепо его слушаться. Диета и лечение его пока Леве идут впрок. Что дальше будет? У меня сильное желание его выходить, и я перестала тосковать и роптать. Он мне мил и трогателен. Доверчив и ласков со мной, и когда я вижу его несчастные худые руки и ноги, то хочется сделать еще что-нибудь более трудное, чтобы выходить его. Только бы удержать хорошие отношения с ним, не сделаться эгоистичнее и небрежнее к нему.
* (Улица Хельдер (франц.).)
Вторую ночь вижу Женю во сне больным. Маша пишет, что он мрачен. Может быть, он просто сосредоточен, и ему хорошо, а другим кажется, что он грустен. Написала ему письмо вчера, но не послала потому, что это третье или четвертое я ему пишу, а от него получила только одно. Когда думаю о нем, мне всегда страшно, что кто-нибудь из нас вдруг перестанет чувствовать привязанность к другому, а это будет больно. Я боюсь его слишком приучать к моей дружбе, потому что, кто знает, вдруг она совсем пройдет и я буду чувствовать, что обманула его. Иногда боюсь, чтобы этого не случилось с его стороны. Но, рассуждая, думаю, что мы не можем перестать быть близкими людьми, в нас много общего, и мы всегда будем любить то же самое.
Лева очень серьезно болен, и я наполовину только надеюсь на его выздоровление. Он покашливает, и это меня беспокоит.
Была гроза, и дождь до сих пор идет. Сегодня первую ночь спала спокойно, без криков студентов, гудков омнибуса, хохота и болтовни (большей частью неприличной) моих соседей. И на душе спокойно и хорошо. Немножко Женя тревожит: что с ним? Мои пишут каждый день. Вчера было хорошее письмо от Маши и очень милое от дедушки. Был Бриссо.
2 марта.
Лева сегодня мечтал о жизни в Ясной во флигеле и написал резкое письмо мама, что если Кузминские приедут, то он в Ясную не поедет и останется жить во флигеле*. Мне представилось, что я могу написать такое письмо к мама об этом, которое она могла бы переслать Кузминским и которое бы не обидело их. Но, сделавши это, мне стало тяжело на душе. Это - нехороший поступок, и ни во имя чего его делать не следовало. Я утешалась тем, что это не для меня, а для Левы, но редко кто делает дурной поступок прямо для себя, а всегда утешается тем, что это для другого.
* (Л. Л. Толстой хотел остаться в Москве, во флигеле долгохамовнического дома Толстых. )
Меня вообще беспокоит то, что я слишком много забочусь о Левином здоровье телесном и слишком мало о духовном и поощряю его в том, чтобы он снимал с себя, ввиду его нездоровья, разные нравственные обязательства.
Вера пишет вчера, что ее поразило, насколько Христос сильнее, сжатее и проще, чем все философы. Она пишет это, возражая своему мужу, который говорит, что Сенека говорил то же самое, что Христос. По поводу этого Лева указал мне следующее место у Руссо: "J'avoue que la majeste des Ecritures m'etonne. La saintete de l'Evangile parle a mon coeur. Voyez les livres des philosophes avec toute leur pompe: qu'ils sont petits pres de celuila! Se peut - il qu'un livre a la fois si sublime et si simple soit 1'ouvrage des homines? Se peut il que celui dont il a fait Fhistoire ne soit qu'un homme lui meme?"*.
* (Признаюсь, величие Священного писания меня поражает. Святость Евангелия многое говорит моему сердцу. Взгляните на труды философов со всею их высокопарностью, как они мелки рядом с Евангелием. Возможно ли, чтобы книга эта, величественная и простая, была делом рук человеческих, и тот, о ком в ней рассказывается, неужели он только человек? (франц.))
6 марта.
Получила сейчас длинное письмо от Маши, и, прочтя его, мне стало тяжело на сердце. Не знаю отчего, но, кажется, что-то вроде ревности опять шевельнулось. Пишет много про Женю, пишет, что вместе проверяли, что у него чудная квартира,- значит, была у него, что "решили" не вмешиваться в чертковскую работу по биографии Дрожжина, и т. п. Кроме того, пишет, что когда Поша приедет из Костромы, он уедет.
Эти дни я все ждала письма; да какое эти дни! Уже дней 10 каждый и целый день жду письма. И беспокоюсь, сержусь, огорчаюсь, возмущаюсь, решаю отказаться от него и опять беспокоюсь, огорчаюсь и т. д.
Нет, в самом деле, это несердечно, нечутко, просто невоспитанно!
Он пишет мне, чтобы я часто не ждала от него писем, а сама чтобы писала. Как он не понимает, что я и так боюсь быть Павлой. Мог бы пощадить мое самолюбие!
Вчера мне было ужасно грустно, страшно за Леву, одиноко и физически слабо. Я пришла из Лувра ужасно усталая, застала Леву с гостями - Шредер и Саломон, тоже усталого, жалкого, кашляющего. Потом меня Кашперова вызвала на лестницу и дала письмо мама к ней прочесть, в котором она пишет, что они с папа очень грустят и тревожатся. Советовала мне консилиум, пугала меня и довела до того, что я, придя к себе, бросилась на постель и дала ход таким рыданиям, как давно со мной не случалось. Я сама испугалась тому, что могу так распуститься, но в эту минуту, казалось, что так легче будет.
Лева мне очень мил и жалок. Там, в rue des Ecoles*, ел всякую дрянь, которую я ему приготовляла, покорно и с благодарностью, и до сих пор подчиняется мне кротко и благодарно. Дай бог только мне не оплошать. Лева кашляет, вот что меня мучает; желудок его поправится, наверное, только бы кашель его прошел. Бриссо, который был вчера вечером, очень успокаивал меня на этот счет. Он вчера был в четвертый раз, не считая того раза, когда мы у него были.
* (Школьная улица (франц.).)
Была два раза в театре с Рише. Раз давали у Francais* "Les femmes savantes"**, а другой раз в "Vaudeville"*** - "M-me Sans gene" Сарду. Не особенно весело, не особенно интересно, и с Рише немножко неловко. Я чувствовала, что я должна играть роль ребенка, которого забавляют игрушкой, из которой он вырос. И было неловко спросить, сколько я ему должна, и я так и не спросила.
* (Теперь носит название "Comedie francaise".- Прим. сост.)
** ("Ученые женщины" (франц.).)
*** ("Водевиле" - "Бесцеремонная дама" (франц.).)
Вчера в Лувре очень наслаждалась и даже волновалась красотой греческой скульптуры. Это останется навсегда, потому что, действительно, совершенство в смысле изображения человеческого тела. Для чего нужно это наслаждение - это вопрос другой, и я готова от него отказаться (нет, впрочем, не совсем), но лучше этого до сих пор ничего не было сделано.
Есть одна "Venus accroupie"*, так и чувствуется теплота и мягкость в складках тела. Рядом с Милосской Венерой два слепка с вариантов этой фигуры, но задрапированных до шеи - без головы и тоже без рук - удивительной красоты, чуть ли не лучше настоящей Венеры.
* ("Венера на корточках" (франц.).)
Только то останется вечным, что в век художника было самым крупным. Так Беато Анжелико всегда останется, потому что в его время лучше его никто не писал. А те подражатели его, которые теперь пишут умышленно без рисунка и перспективы, сгинут с лица земли, потому что нельзя игнорировать то, что до них сделано, и возвращаться к примитивности.
Сегодня ходила с Катей Давыдовой, Линой Беклемишевой и еще кое с кем в ателье и на выставку-продажу картин и вынесла довольно грустное впечатление. Французские художники имеют обыкновение перед Салоном открывать для своих знакомых свои ателье в известные дни; вот мы в такой попали. Две, три плохие картины: отец - художник и дочь, тоже миниатюристка. Принимает в поношенном бархатном платье, в перчатках. Народу - пропасть; входят, говорят несколько красивых фраз, смотрят на картины - опять красивые фразы, и, уходя, бранят за дверью художника и его произведения. Щебетание, улыбки, завитые волосы, туалеты, накрашенные лица, красивые фразы. Никогда в России такой беззастенчивости и лжи не видала.
На выставке продажных картин тоже пропасть народу. Но что за картины! Все это безумное, бессмысленное искание чего-нибудь нового, и только два-три пейзажа, немного передают природу, а остальные - лубочные, скверные картины: ярко-зеленые деревья, обведенные широким черным контуром, невероятно синее небо и красные крыши. А лица! Это невероятно! Меня это возмущает, смущает, поражает, приводит в недоумение. Я смотрю во все глаза, думаю во все мозги, стараюсь что-нибудь найти, понять, но ничего, ничего. Конец миру пришел.
3-го бросили еще бомбу в Madeleine, но был убит только бросивший ее.
Беспокоит меня Женя. Часто думаю о том, как бы я приняла то, чтобы он влюбился в кого-нибудь, и кажется мне, что я не огорчилась бы за себя. За него было бы больно, но если бы он сам мне это сказал, то я не отчаялась бы, не отказалась от него, может быть, больше любила его. Я думаю, что он сказал бы мне, если бы это случилось, потому что когда я за Машу мучилась, он сказал мне, чтобы я не боялась, чтобы он был неоткровенен, и я часто с радостью вспоминаю об этом, потому что это мне мешает за него во всех отношениях бояться.
8 марта.
Получила длинное и милое письмо от Жени. Наконец. Чувствую в нем близкого человека и думаю, что это всегда так будет, потому что мы любим одно и идем по одной дороге: если не ровно, то направление одинаковое.
Леве хуже вчера и сегодня, и он, бедный, отчаивается. Кашель проходит, но живот болит. Вчера была неделя, как мы сюда переехали. Вечером был Дежарден. Очень хорошее произвел впечатление. Если успею, спишу, что о нем писала домой. Отослала письма. Дежарден тем замечателен, что он первый человек, которого я увидала в Париже, который понимает учение Христа и старается жизнь свою хоть немного подчинить своему убеждению. Был журналистом, но бросил и занялся народными школами. Мать его - ревностная католичка. Он говорит, что если бы она сердилась на его свободомыслие, то было бы легче, но что она огорчается, потому что думает, что я себя гублю. И он не знает, как быть: насколько ей подчиняться, насколько скрывать от нее свои мысли. Говорит, что не трудно выбирать между страстями и долгом, а трудно знать, какой долг старше. Но знает, что главное - быть правдивым, и говорит, что не надо изменять порядка двух заповедей Христа: "Возлюби бога твоего всем сердцем твоим" и "Возлюби ближнего твоего, как самого себя".
Он себя поставил здесь в смешное положение - это говорит в его пользу. Правительство его не одобряет за го, что он в школах слишком много обращает внимания на религию.
Рассказывал интересно про Мопассана, которого знал. Раз шел с ним домой по бульвару, пообедавши в ресторане, и разговаривали о литературе и о Толстом. Мопассан читал только "Войну и мир" и "Анну Каренину". Дежарден, который только что прочел "Смерть Ивана Ильича" и который был от этого в восторге, стал ему об этом говорить и в общих чертах рассказал ему содержание. Мопассан замолчал и взял его под руку, и они долго шли молча. Потом Мопассан стал говорить ему, какую он прожил пустую и ненужную жизнь, как вся его деятельность бесполезна и что было бы гораздо лучше, если бы он был хлебопашцем. Потом попросил прислать ему "Смерть Ивана Ильича". Это была последняя книга, которую он прочел, потому что дней через пять-шесть сошел с ума. Дежарден говорит, что он жил ужасно: получал за книги около 150 000 франков, которые все проживал.
Дежарден странный - немного аффектированный, похож на Урусова Леонида, Вяземского и Столыпина, но меньше их всех ростом и коренастее Вяземского.
8 марта.
Была сегодня на трех выставках: символистов, импрессионистов и неоимпрессионистов*.
* (22. Выдержки из Дневника Татьяны Львовны, начиная со слов: "Была сегодня на трех выставках...", кончая: "...обведено широким черным контуром" - Толстой включил в X главу статьи
"Что такое искусство?" (т. 30, с. 103-104). В своих отрывочных воспоминаниях "Зарницы памяти" Татьяна Львовна писала под заглавием "Женофобия": "Отец был невысокого мнения о женщинах <...> Когда отец работал над своим трактатом об искусстве, я часто переписывала рукопись. Однажды он попросил страницу из моего дневника, чтобы вставить ее в свою книгу. Поясняя этот отрывок, он написал, что цитирует слова друга, разбирающегося в искусстве. Я его спросила: "<...> почему ты написал "друга", а не "приятельницы"?"
- Видишь ли,- отец был немного смущен,- чтобы читатель проникся большим уважением к высказанному мнению" (Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1976, с. 444-445).)
9 марта.
Вчера добросовестно и старательно смотрела на картины, но опять то же недоумение и под конец возмущение. Первая выставка Камиля Писсаро, еще понятная, хотя рисунка нет, содержания нет и колорит самый невероятный. Рисунок так неопределенен, что иногда не поймешь, куда повернута рука или голова. Содержание большей частью "эффекты": эффект снега, эффект тумана, эффект сумерек, заходящего солнца. Несколько картин с фигурами, но без сюжета: пастух, пастушка с гусями, сидящая крестьянка. В колорите преобладает ярко-синяя и ярко-зеленая краска. И в каждой картине свой основной тон, которым вся картина как бы обрызгана. Например, в "Сидящей крестьянке" основной тон - ярь-медянка и везде попадаются пятнышки этой краски: на лице, волосах, руках, платье. В той же галерее "Durand Ruel" другие картины: Пювис де Шаванн, Манэ, Монэ, Ренуар, Сислей. Это все импрессионисты. Один, не разобрала имени, что-то похожее на Redon, написал синее лицо в профиль, но не совсем синее, как эти чернила. Во всем лице только и есть этот синий тон с белилами.
У Писсаро акварель вся сделана точками. На первом плане корова вся разноцветными точками написана. Общего тона не уловишь, как ни отходи или ни приближайся.
Оттуда пошла смотреть символистов. Долго смотрела, не расспрашивая никого и стараясь сама догадаться, в чем дело, но это свыше человеческого соображения. Одна из первых вещей бросилась мне в глаза: деревянный горельеф, безобразно исполненный, изображающий женщину (голую), которая двумя руками выжимает из двух сосков потоки крови, которая течет вниз и переходит в лиловые цветы. Волосы сперва спущены вниз, потом подняты кверху, где превращаются в деревья. Статуя выкрашена в сплошную желтую краску, волосы - в коричневую.
Потом картина: желтое море, в нем плавает не то корабль, не то сердце, на горизонте профиль с ореолом и желтыми волосами, которые переходят в море. Краски некоторые из них кладут так густо, что выходит не то живопись, не то скульптура.
Третье, еще менее понятное: мужской профиль, перед ним пламя и черные полосы - пиявки, как мне потом сказали.
Я спросила наконец господина, который там находился, что это значит, и он объяснил мне, что статуя - это символ, что это изображает землю. Плавающее сердце в желтом море - это утраченные иллюзии, а господин с пиявками - это зло. Тут же несколько импрессионистских картин: примитивные профили с каким-нибудь цветком в руке. Однотонно, не нарисовано, и - или совершенно неопределенно, или обведено широким черным контуром.

Евгений Иванович Попов

М. В. Нестеров. Портрет Анны Константиновны Чертковой. 1890 г.

Владимир Григорьевич Чертков

Т. Л. Толстая. 1895 г.
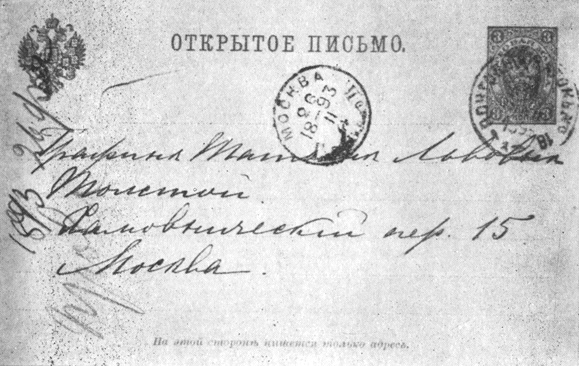
Текст открытки Л. Н. Толстого к старшей дочери. 'Лежит эта карточка без употребления, вот я и пишу, чтоб сказать тебе не то, что солнце встало и т. д., а что я об тебе часто поминаю и что тебя нам недостает. И никто не поет. Сейчас собираемся читать Чехова в Рус. мысли. Вот и все. Л. Т.'
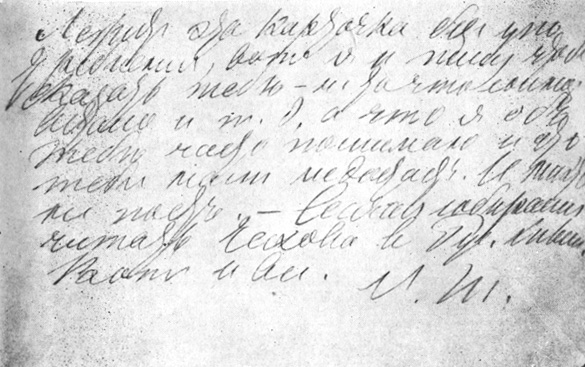
Текст открытки Л. Н. Толстого к старшей дочери. 'Лежит эта карточка без употребления, вот я и пишу, чтоб сказать тебе не то, что солнце встало и т. д., а что я об тебе часто поминаю и что тебя нам недостает. И никто не поет. Сейчас собираемся читать Чехова в Рус. мысли. Вот и все. Л. Т.'

Марья Львовна Оболенская, рожд. Толстая. 1906 г.

Л. Н. Толстой и С. А. Толстая

Михаил Александрович Стахович
Показывалось это, должно быть, у какого-нибудь торговца картинами, которыми полна эта улица. Вход прямо с улицы, и только одна комната с картинами.
Последняя выставка неоимпрессиониста. Такая же обстановка. Бессмыслица тоже такая же, если не большая. Тут все написано кусочками: иногда правильными овалами, иногда кружками, иногда четырехугольниками. И не мелкими: вся рука у одной женщины состоит из десятка правильных овалов. Если контур мешает правильному овалу, то помещается тот отрезок, который может войти в этот промежуток места. Это tachistes, а те, которые пишут точками - pointistes. Народу по этим выставкам ходит мало. Раздаются даром каталоги на прекрасной бумаге. Те, кто ходит, вероятно, художники, потому что в мягких шляпах, разбирают разные подробности и восхищаются тем, что ужасно. Тут же продаются офорты с этих картин по 30 франков.
10 марта.
Третьего дня был Бриссо без меня. Прописал еще два раза в день мясо. Будет сегодня или завтра.
Мне часто страшно, что я могу на себя умиляться и считать, что я делаю что-нибудь хорошее. И всякий раз, как шевельнется такое чувство, мне тяжело и больно, и я знаю, что за это будет время, когда я буду ужасно каяться, и мучиться, и упрекать себя.
12 часов.
Варю кашу и пишу. Приходили сейчас Феррари (издатель "Revue Bleue")* от Рише, и с ним Визева, который писал про папа "un malheureux"**, кажется, "un prisonier"*** или что-то в этом роде. Лева просил меня не принимать их, потому что он ставил клистир, надо было выносить ведро, молоко мое уходило, и я просила их прийти в другой раз.
* ("Синего журнала" (франц.).)
** (несчастный (франц.).)
*** (узник (франц.).)
11 марта.
Сегодня трудный день. В завтрак пришел Бриссо. Лева второй день очень нервен и раздражен и сейчас же стал Бриссо грубо говорить, что он его губит, что все его шутки не смешны и что он больше лекарств принимать не будет. Бриссо сказал, что напрасно тогда он его звал, и ушел. Я поймала его на лестнице, извинилась за Леву, просила его не бросать нас, и он смягчился: сказал, чтобы я Леву катала и что он опять придет. Говорит, что болезнь его вся от нервов, оттого, что он целый день смотрит на язык, щупает живот и смотрит на свои испражнения.
Пришла назад. Лева сидит грустный в гостиной; прочли письма, в то же самое время полученные. Потом слышу, Лева рыдает. Посмотрела - правда, плачет. Щеки впалые, лоб - одна кость, обтянутая кожей. А я с утра крепилась, но тут не удержалась и сама начала тоже плакать, утешать его, гладить по голове. Лева тут же решил, что мы в понедельник поедем домой (сегодня пятница), что он больше не может жить вдали от своих, скучать, волноваться и ждать выздоровления, которое все не приходит. Я думаю искренно, что Леве гораздо лучше ехать домой и там спокойно выхаживаться. Железо и всякие пилюли, конечно, только вредны, надо успокоить его нервы, а это только возможно дома. Боюсь только, что у нас теперь холодно и самое гнилое время - то оттепель, то мороз, но, может быть, бог даст, он не простудится. Мне страшно брать на себя ответственность везти его домой, потому что мне самой так хочется ехать; но я вижу, что его удержать нельзя, и мои советуют везти его. Ну, что бог даст - да будет Его воля.
Написала Жене записку, чтобы он не уезжал еще в Воронеж, если это ничего не изменит, Но готовлюсь к тому, чтобы не застать его. И готовлюсь к тому, чтобы не ждать от него никакой ласки и дружбы. Точно так же и от своих. Я уверена, что все-таки, так страстно стремясь к ним теперь, я буду разочарована, когда приеду. Я буду слишком много от них ждать и почувствую неудовлетворение и боль, как часто, когда стремлюсь домой всей душой и не нахожу в них отголоска на свой призыв. Это глупо, что я не могу понять, что жизнь всякого из них полна помимо меня, и я не могу ожидать от них, чтобы они жили моей жизнью. Да и не желаю этого совсем. Вероятно, и я также не удовлетворяю других. Страшнее всего мне Машу видеть: она не сумеет пощадить мою ревность по отношению к папа, Жене и другим, и скорее напротив, возбудит ее своими рассказами. Какое это мерзкое чувство. Откуда оно у меня родилось? И как мне избавиться от него?
Сегодня вечером ездила в открытой пролетке в "Bon Marche", чтобы мерить платье и кое-что купить своим в подарок, и меня очень продуло. Боюсь, что я подновила свою вагонную простуду, которая до сих пор не прошла. Опять дерет грудь, опять дышать трудно и опять страх за то, что не доеду домой, а умру тут. Ну, да будет воля Твоя. Надо этим насквозь проникнуться, и только тогда можно жить.
12 марта.
Лева написал вчера Бриссо извинительное письмо и просил его прийти в воскресенье. Я очень рада. Но думаю, что, повидав его, Лева опять решит остаться, и я опять буду раскладывать свои чемоданы. Мне минутами бывает страшно за себя, что я не выдержу этого постоянного нервного напряжения. Через день мне приходится плакать, и каждый день сто раз подниматься и падать духом. А внешне надо быть ровной целый день: в известные часы варить кашу, яйца, мыть посуду, выливать судно, и все время напряженно стараться утешать и поддерживать Леву. Только вчера не выдержала и при нем расплакалась.
Чувствую минутами, что ум за разум заходит: говорю не те слова, которые нужны, и на днях написала письмо домой. И не могла - никак не хотели выходить те буквы и слова, которые надо было. Какая я слабая, никуда не годная и мнительная! Вчера вечером так испугалась простуды, что всю грудь сожгла горчичниками. Сегодня совсем здорова. Хотя что-то есть в груди, и я нет-нет да подумаю, что у меня чахотка. Ну что ж, и прекрасно. Только бы дома.
Рада уехать из Парижа, хотя он дивно красив. Изо всех городов, которые я знаю, он самый красивый. Вчера вечером ехала Тюильри и любовалась им. С одной стороны этот огромный сад со статуями и фонтанами, а с другой - Лувр - серьезный, величественный и стройный. За Тюильри на красном небе чуть вырисовывается легкая Эйфелева башня. На темной Сене пароходики с разноцветными фонарями. И вечером все довольно пусто и тихо. На небе одна бледная звезда. Мне было вчера грустно до боли, но серьезно и покорно.
Женя писал, что папа ему говорил, что Сережа боится, чтобы что-нибудь не вышло у меня с Женей. Но папа ответил, что и Сережа, и он знают, что ничего выйти не может. Конечно, что может выйти? Замуж мы друг за друга идти не хотим. Кроме того, что это невозможно, потому что он женат, потому что он не пошел бы на церковный брак, и я не хотела бы этого (а иначе это убило бы мама),- просто нам это не нужно. Нам гораздо лучше жить свободно и врозь. Если бы мы влюбились друг в друга, то, может быть, этот вопрос возник бы, но надеюсь, что он никогда не сделает столько шагов назад, чтобы до этого дойти. У меня же бывает это смутное, бессмысленное желание каким-нибудь образом внешне привязать его к себе, когда я испытываю ревность. Вероятно, это тоже влюбление. Но это так бессознательно, что не стоило бы об этом писать, если бы я не боялась упустить из виду какой-нибудь крючок, на который я могу попасться. Имеет ли это какой-нибудь смысл? Когда думаешь, что человек уходит от тебя - сковать его цепями с собой? А вместе с тем я думаю, что все браки имеют в основании или, скорее, имеют стимулом ревность. Чтобы все знали и он сам, что этот человек мой, я имею на него всякие права, а больше никто. Женя раз сказал мне: "Чем это может кончиться?" А потом, должно быть, испугался, что я подумаю, что он намекал на замужество, и оговорился на другой день, что он думает, что я уеду как-нибудь в Париж надолго, мы и раззнакомимся. Смешной человек! Он может быть спокоен, что никогда у меня не будет возможности серьезной мысли об этом. Это мне не нужно, страшно и отвратительно. Я бы перестала его уважать и возненавидела бы, если бы я была его женой. И единственно, что может "выйти" из нашей дружбы,- это то, что мы ее разорвем, если она перестанет для кого-нибудь из нас быть дружбой, и мы почувствуем, что не справимся с этим.
Я рада, что он говорил об этом с папа. Я уверена, что папа видит и знает, что между Женей и мной отношения особенные - сильнее, чем обыкновенная дружба, но, доверяя мне и ему и зная нас, он не боится этого. Не знает он только того, что мы говорили об этом, что я (или мы?) испугалась этого и хотела разорвать всякие отношения, но что потом увидала, что это не нужно и что пугаться нечего. Мы это и скажем ему.
Мне часто кажется, что я навязываю Жене особенную дружбу к себе, и что этого вовсе нет на самом деле, и что он из-за нежелания меня огорчить поддерживает меня в этом убеждении. Так вот, если вы прочтете это, то запомните, что я вас прошу: никогда из страха огорчить меня не обманывайте меня ни капельки. Я не боюсь того, чтоб мы стали меньше любить друг друга, напротив, желаю этого. А совсем разойтись нам невозможно, потому что то, чем мы стараемся жить, всегда будет соединять нас, потому что между нами никогда не было ничего нехорошего и недоброго.
Да, но постараюсь эти четыре страницы ему не показывать.
12 марта.
Получила сейчас письмо от Веры. Она пишет много о Евгении Ивановиче. Пишет и о себе очень хорошо, и о нас с Левой сердечно и добро, как всегда. Но одна фраза меня так ужалила, что до сих пор от боли хочется бегать, стонать, убежать, спрятаться от нее. Это невыносимо. Что сделать против этого? У кого спросить, чем вылечить эту ужасную болезнь? Она пишет просто, что Маша часто бывает в "Малом Посреднике" (они теперь разбились на два, и пока Поша в Костроме, там один Женя) и много разговаривает с Евгением Ивановичем. И такая злоба на Машу поднимается, что распирает все сердце, и больно, больно нестерпимо. Я думаю, что это не исключительно ревность к Евгению Ивановичу, потому что, когда она ходила к Леле Маклакову и он по ночам ее провожал и когда целовалась с Петей или Зандером,- мне было так же тоскливо и больно. Но тут есть и страх за то, что она его увлечет.
Хуже всего для меня то, что я не умею ответить себе чистую правду и, сколько себя ни спрашиваю, боюсь, что все-таки что-то скрывает и затуманивает мне мое настоящее отношение ко всему этому.
Хочу ли я, чтобы он видел во мне женщину и увлекался мной, как женщиной? Иногда да, потому что я для него жалею и пугаюсь того, что я дурнею и старею. Иногда нет, напротив, боюсь страшно поймать в его взгляде что-нибудь не открытое, такое, что ему стыдно было бы признать.
Надо, чтобы я ожидала от него к себе такого отношения, как к Марье Александровне. Не говорю к папа, этого слишком много.
Какой стыд, какая гадость, какая слабость! И это в 29 лет. Кабы меня высек кто-нибудь, обругал бы обидно, жестоко! Надо вырвать эту привязанность, но как? Это безумно, что я позволяю этому продолжаться, это все крепче в меня врастает и тем больнее будет это рвать. Хоть бы он, правда, влюбился в Машу, право, это легче было бы, чем этот периодический страх, который меня изводит. Я устала, измучилась, мне хочется что-то сбросить, скинуть с себя эту напряженность, которая меня утомила до последней степени.
Почему ему с Машей не любить друг друга? Чем это мешает мне? Чем Жене мешает, что я дружна с Пошей и другими? Я вчера получила письмо от Поши, очень милое и ласковое, где он пишет, между прочим, что было без меня скучно, что он очень привык ко мне. И я себе представила, что если бы Маша это написала Жене, то я ужасно страдала бы, а вместе с тем это от Жени не отнимает ни капли моей дружбы к нему.
Какая я подлая! Мне в такие минуты приходит в голову выйти замуж за кого-нибудь, как будто это может чему-нибудь помочь. Нет, этого я не дам ему читать, это слишком постыдно. Мне перед самой собой стыдно, как будто не я писала и думала это. Но, выливши эти помои на бумагу, я как будто освободилась от них. Как мне сейчас уже в сердце легче.
Завтра едем домой. Радостно и страшно. Меня, наверное, ждет наказание за то, что я была иногда довольна собой, и за то, что меня так хвалили.
Как трудно жить! Сколько надо терпения, напряжения, кротости, покорности, любви, чистоты, правдивости. Во мне ничего этого нет, есть только любовь к себе, которая всему этому противодействует.
Бросьте меня, если прочтете это. Что между нами общего?
14 марта.
Сегодня едем домой. Вчера целый день мне как бы сковало всю грудь от волнения и от вчерашнего припадка. Это унижение мне наказание за то, что меня очень хвалили и любили последнее время. Я этого всегда боюсь и всегда мне хочется и приходится нести за это наказание.
Вчерашняя боль прошла. Я опять победила ее. Опять я спокойна и тверда, но знаю, что она может вернуться. Что мне против нее сделать? Я проснулась сегодня разбитая, как после какого-нибудь горя. Да это и есть горе. Смотреть на себя с ужасом и отчаиваться в себе - это очень тяжело и обидно. И видеть, что длинная, напряженная работа вся разлетается от трех слов, которые ничего не значат. Я не вижу тут движения вперед. Это огромные шаги в какую-то отвратительную бездну. Одно хорошо, что это меня смиряет. Я чувствую себя слабой, поэтому скромной, низкой. Мне хочется плакать и просить прощения. Женя мне сказал раз, что я его не жалею. Что же мне делать? Закрыться от него? Или пусть он бросит меня. Я очень его жалею, если я вошла в его жизнь. Я многое ему испортила, между прочим, отношения с папа и с Машей. Я сколько раз предлагала ему освободиться от меня.
Сегодня должно быть письмо, Иду сейчас в Лионский кредит брать билеты в спальном вагоне и потом укладываться до вечера без передышки.
Вчера приходил один редактор из "Temps" - господин Адельгейм - спрашивать про статью папа о Тулоне. И мы с Левой колебались между страхом сказать что-нибудь такое, что могло бы породить сплетню, и между желанием рассказать ему то, что полезно всем людям знать.
Два часа. Получила от Жени письмо, вялое. Спрашивает обо мне, а о себе ничего не пишет. Верно, ничего в нем нет нового. Все-таки мне успокоительно и приятно видеть его почерк. Пишет, что с папа очень хорошо, но что Маша его напугала, что папа неправду ему сказал. И он ходит в Хамовники и старается сблизиться, подружиться с папа. Какая кокетка этот Женя!
Я боюсь, что он мешает папа. Как папа их ни любит, по в Ясной говорил, что они ему мешают и что часто ему хочется быть одному. Он говорил, что как они ("посредники") ни близки ему, и как он их ни любит, но часто более желал бы быть один, чем с ними, с дядей Сережей, которого он тоже нежно любит, и вообще с кем бы то ни было. Я это часто хотела им сказать, но боялась огорчить их. Ну вот, теперь это Женя, может быть, прочтет, а Поше я скажу, когда увижу.
Лева грустен и уныл, говорит, что грустно ехать домой больным.
16 марта. 4 часа дня.
Отъехали от Вержболова. Проехали две ночи и полтора дня. Ровно полдороги. Пока благополучно. Первая ночь была самая страшная: Лева был ужасно слаб, так что я его должна была разуть, снять панталоны и укрыть. Всю ночь я постоянно испуганно просыпалась и прислушивалась, дышит ли он, жив ли. Вчера и сегодня он бодрее, но все жалуется.
На границе было неприятно, что мы провозили запрещенные книги и не сказали об этом. И я себя поймала на том, что готовилась возмутиться, если мне не поверят, что нам нечего заявлять. И чувство у меня было такое, что я имела бы право возмутиться, так как чувствовала себя совершенно правой. Это остановило мое внимание и заинтересовало меня потому, что я вижу, как легко уверить себя в какой-нибудь лжи и, говоря неправду, совершенно твердо верить, что права. Особенно когда некому уличить.
Читала в "Северном вестнике" отрывок письма Тургенева к Анненкову о "Войне и мире". Тургенев хвалит художественную сторону и порицает психологическую, как и подобает истинному эстету*.
* (В заключение письма к П. В. Анненкову от 14/26 февраля 1868 г. И. С. Тургенев дает, однако, очень высокую оценку "Войны и мира": "Со всем тем есть в этом романе вещи, которых, кроме Толстого, никому в целой Европе не написать и которые возбудили во мне озноб и жар восторга" (Тургенев. Письма. М.-Л., 1961-1965, т. 7, с. 65). )
Говорили об этом с Левой. Он говорит, что его утешает, что всякое художественное произведение что-нибудь да порицает, и что когда его вещи хвалят или бранят, то ему все равно.
Я думаю, что не совсем. Да этого и не может быть. Чужое мнение может не влиять на то, чтобы произведение было так или иначе написано, но оставаться равнодушным к похвале или порицанию нельзя. Также и в поступках.
Я устала, голова болит, поэтому глупа и вяла, и о домашних думаю вяло. Женя далек.
На границе испытала минуту волнения, увидав русского носильщика, русские надписи, черный хлеб. Лева говорит, что ему хотелось перекреститься.
Получила в Париже письмо от Веры Толстой, которое меня тревожит. Пишет с нежностью о И. Г., говорит, что ей легче жить от дружбы с ним и его товарищами, но что боится, что он слишком хорошо о ней думает. Потом говорит, что знает, что я думаю, читая ее письмо, но что это неправда, что она никогда до этого не допустит. Не знаю, это - страшно. Этот дьявол всегда сторожит и, где можно, сбивает людей с толку. Я более боюсь, что он ее полюбит слишком нежно. Он - очень восторженный и сентиментальный, она отнеслась к нему добро, ласково и серьезно, и она такая прекрасная девушка, а он так мало избалован, что это было бы неудивительно. Боюсь, что Вера из скромности будет недостаточно осторожной. А если это будет, то возможно, что и она, как все женщины, ответит на это чувство. Кто знает? Может быть, и женятся. И не скажу, чтобы я им этого не желала. Но это очень будет Вере трудно относительно ее родных. Да что я так решаю, может быть, это останется на дружбе. Даже почти наверное. Дружба женщины с мужчиной имеет в себе что-то очень хорошее, когда она на этом остается. Это - сильнее, интереснее, полезнее, чем женская дружба (мужской я не знаю), но легко свихивается с этого. Хорошо, когда это так, как у св. Франциска со своей подругой*, забыла как ее зовут, и о таких отношениях я мечтала с Женей. Может быть, они станут такими, когда мы станем больше похожи на св. Франциска и на эту (забыла ее имя).
* (Клара.- Прим. сост.)
Папа писал мне в Париж, что ему хочется написать изложение христианского учения для детей, но потом об этом замолчал. Вероятно, не напишет. Все возится с Тулоном, который ни ему, ни кому другому особенно не нравится. Там очень много хорошего, но мне всегда грустно, когда его тон недружелюбный и полемический*.
* (Толстой упоминает об этом в письме к Л. Л. и Т. Л. Толстым от 21 февраля 1894 г. (т. 67, с. 45). )
Как мне хотелось, чтобы он написал вещь, вполне чистую от спора и полемики, и вложил бы туда всю любовь, красоту и умиление, которые у него всегда так прекрасно выходят и так трогают, потому что они искренни и у него этого так много в сердце. Неужели я увижу его? Мне все страшно, что что-нибудь случится, что этому помешает.
Я накупила платьев в Париже, и это мне иногда неприятно вспоминается. Они очень дешевые и простые, и я их ни разу не надевала за этот месяц, что я жила в Париже, но мне это грустно, потому что ужасно глупо. Это какая-то слабость, как пьянство. Живу спокойно, о "пьянстве" не думаю, потом вдруг пойду и напьюсь, без потребности, без удовольствия, а напротив, с тяжелым чувством раскаяния на другой день.
18 марта.
В вагоне. Подходим к Москве. Второй день мне кажется, что Лева жив не будет. Он говорит, что с ним внутри сделалось что-то новое, что его пугает и что изменило его настроение. Иногда он говорит, что очень хорошо, а вчера говорил, что умирать не хочется. Все ночи, засыпая, я боюсь, что он не доживет до утра и под разными предлогами стараюсь посмотреть на него и послушать его дыхание. Кузминские, которых мы видели в Петербурге, нашли, что он лучше, чем они ожидали: ходит иногда бодро, говорит иногда бодрым голосом, не бледен, хотя страшно худ, и не видать на нем того, чтобы он был безнадежен.
С Кузминскими было очень дружелюбно и хорошо. Они нанимают дачу у дяди Саши Берса, потому что понимают, что с перестройкой Леве жить негде, не говоря о Маше. А нынешнее лето мы все сделаем всё возможное, чтобы его выходить.
О себе писать не хочется, совестно, когда рядом, с Левой, делается такое серьезное. Но знаю, что будет интересно вспомнить.
Мне очень был труден этот месяц, так труден, что я никогда не думала, что без важных причин я могла пережить такое время. Нервы очень разбиты, поминутно плакать хочется. О Жене думаю неспокойно. Если его не будет в Москве, это будет, пожалуй, к лучшему, хотя надеюсь его видеть.
Хорошо то, что в душе нет ни местечка для злобы, раздражения или осуждения. Оттого с Кузминскими было так хорошо.
Без четверти восемь. Через 15 минут Москва.
11 часов ночи.
Так вот я дома. Провела здесь день и теперь, лежа в постели, записываю это. Маша мне многое рассказывала, что было мне неприятно. Завтра запишу про это и про Женю, который был, но которого я почти не видала.
12 часов.
Слишком устала, чтобы заснуть, и потом, отвыкла от досок, поэтому беру опять карандаш и попробую записать, что Маша мне рассказывала. Во-первых, она ежедневно носила мои письма к Жене. Потом говорила с ним об его со мной отношениях. Это мне было очень неприятно. Ношение писем и сведения обо мне носили характер посредничества Маши между мной и Женей. С какой стати? Точно Маша покровительствовала какой-то любви, и он принимал ее услуги. Нехорошо. Я себя спрашиваю, не ревность ли говорит во мне, но в этот раз с полной правдивостью могу сказать, что нет. То, что он говорил с Машей обо мне, тоже нехорошо. И говорил нехорошо. Говорил, что для женщины привязанность очень много значит, а для мужчин ничего. Что я под его влиянием и люблю его больше всего на свете, а что я для него не нужна, что я только радость, и больше ничего. Это не было сказано так грубо, но смысл этот. Он мог говорить это мне, я ему благодарна за то, что он меня никогда не обманывал, но говорить это другим - нескромно, непорядочно. Зачем же тогда, зная или думая это, он не позволил мне разойтись с ним? Привязать меня веревками к себе и хлестать по лицу? Да, этот поступок его был ошибка, и всегда, когда я о нем думаю, он вызывает во мне недоверие или осуждение.
Говорила мне Маша, что он разговаривал с ней о женщинах (его специальность), с Екатериной Ивановной о любви так хорошо, что она пришла в восторг; рассказывала, что Марья Васильевна в него влюблена и упрекает Павлу в том, что она с ним кокетничает, а Павла сидит на столе и кривляется с ним, говорит: "разве вы не помните, что у меня была коса?" - и всякие пошлости. Веру он просил всегда ему говорить, когда она его осуждает, и она сегодня мучилась тем, что не знала, сказать ему или не сказать, что она его бранит за разговор с Машей обо мне и т. д. И мне стало за него очень грустно. Он так любит женщин, что кокетничает со всеми ими, и это его балует и расслабляет. И мне стало обидно и оскорбительно, что и я в числе этих женщин и что я попалась на его кокетство. Я насквозь этого кокетства вижу его милую, скромную душу, его ум и силу, но вижу и эту черту, которая меня рассердила, потому что я не вижу борьбы с ней. Я от него большего ожидаю, чем от многих других, поэтому мне больно видеть его слабым.
Тут же Маша рассказывала мне, как Павла лезет к Поше, как Черняева хочет заставить Новоселова жениться на себе и употребляет всякие способы, чтобы его покорить: совместная работа, курсы, а теперь халаты с фалбалами*, валяние на кушетке.
* (оборка (с франц.).)
Все это меня испугало и возмутило. Но еще все во мне в беспорядке. Я ничего не решила. Четыре ночи в вагоне, усталость, беспокойство за Леву, волнение всех опять увидать - меня совсем спутали. Завтра об этом подумаю спокойно.
От Черткова отчаянные, огорченные письма. Жена его умирает. Поша завтра едет, Женя поедет на днях. И папа собирается. Но я очень, очень боюсь, чтобы он ехал*.
* (18 марта Толстой, получив от Черткова телеграмму о болезни его жены, ответил телеграммой и письмом, что не может быть тотчас из-за болезни сына Льва, приехавшего в этот день в Москву (см. т. 87, с. 265). 25 марта Толстой с Марьей Львовной выехали к Черткову в Ржевск, вернулись 3 апреля.)
19 марта. Проснувшись.
Вчера Маша рассказала мне клевету про Женю, которую я забыла записать, потому что, конечно, не поверила ей. Но мама наполовину верит, а папа говорил Маше, что хотя он не верит, но все-таки всегда от клеветы остается что-то тяжелое. Бедный, бедный малый! Надо сказать ему, а мне ужасно жалко делать ему больно. Хотела не идти сегодня к нему, но, вероятно, пойду. Как это жаль, что опять мне приходится его огорчать. Но ведь нельзя не сказать?
23 марта 1894.
Грустно, грустно, скучно. Четыре дня не писала дневника, и вот что за это время случилось: 19-го после завтрака сидела я с Машей у мама в комнате. Вошел папа и, глядя на меня, сказал Маше: "Сказать ей?" Я сейчас же поняла что и говорю, что знаю.
Папа: Да, мы с Сережей только на одном сошлись, представь себе.
Я очень смутилась и опять сказала, что знаю, что они с Сережей в бане говорили обо мне и Жене. Папа спросил, откуда я знаю.
Я: Мне Евгений Иванович писал.
Папа очень испугался: Евгений Иванович писал?
- Да.
- Как же, как же он писал?
Я: Ну, я это тебе расскажу. Мы говорили об этом с Евгением Ивановичем...- Я опять смутилась и запуталась.- Ну, я тебе все сначала расскажу. Перед отъездом в Ясную мне показалось, что наши отношения не только и не совсем дружественные, и я пошла в "Посредник" и сказала это Евгению Ивановичу и сказала, что надо нам перестать видеться, писать друг другу и вообще разойтись. И разревелась.
Это точно ужалило папа.
- Разревелась?
- Да.
- Ну, а он что же?
- А он мне потом написал, что пугаться нечего, что такого резкого разрыва не нужно, а то мы, как недобрые люди, будем бояться встречаться.
Потом папа меня перебил и спросил:
- Ну, попросту, по-русски, ты влюбилась?
Я сказала:
- Нет,- а Маша сказала, что она думает, что да, Я сказала папа, что я спрошу у Жени позволения показать папа его и мои письма, чтобы папа видел, что между нами было сказано.
Днем я поехала к Беклемишевой, к Раевской и к Жене. Он встретил меня в дверях, и мы пошли в его комнату. Мне было очень больно, что я принесла ему три неприятности, и по дороге все думала, как бы пощадить его, но нельзя было. Я начала с того, что сказала, что у меня три неприятности. Первая про клевету. Он сказал, что ему все равно; Потом я рассказала про разговор с папа. Он очень взволновался и говорил, что у него эти дни было предчувствие чего-то. С ним мне было так хорошо, что меня ничего не тревожило и, кроме того, я чувствовала, что ничего нового не случилось. Мне не было стыдно и страшно, и он тоже успокоился. Третье то, что я ему сказала, что я его упрекала за кокетство и что мне было противно, что он добивается расположения женщин и потом подставляет им всем голову, чтобы они его по ней гладили. Я говорила ему это совершенно покойно, без тени ревности и злобы, напротив, любя его и жалея об этой его слабости, и потому, я думаю, это хорошо на него подействовало.
Он сказал мне, что очень рад, что я ему сказала, даже если это и не все справедливо. Да я и думаю, что я преувеличила. И потом мне было стыдно, что я смею обличать его, как будто я такая совершенная, а я в этом отношении гораздо хуже его. Но мне хочется, чтобы в нем не было ни задоринки, и поэтому, если вижу ее, не могу удержаться, чтобы не сказать ему этого, в надежде, что он ее уничтожит.
Взяла у него последние его дневники, мои письма и ушла спокойная, но с огорчением за него, что ему теперь с папа будет неловко.
Отдала папа письма. Он ночь не спал, прочтя их. На другой день он пришел ко мне и сказал мне, что это - простое влюбление и что на это нечего закрывать глаза. Я опять сказала, что нет, что это - и больше, и меньше влюбления, но не это чистой воды. Написал мне 10 пунктов. Между прочим, что это дурно, потому что от этого страдают: мама, Сережа, я, Женя, про себя он не говорит, потому что из страдания старается сделать благо. Осуждал Женю за его письмо ко мне, говоря, что оно не искреннее и жестоко, потому что я от него страдала. Говорил, что делать особенного ничего не следует, надо обращаться друг с другом, как со всеми остальными, и больше ничего.
Я ждала, чтобы Женя пришел к папа, и мне было неприятно, что он боится его.
Вечером должна была быть музыка у Толстых. Я пришла туда из первых. Был Столяров. Он собирался идти к Евгению Ивановичу за нотами. Я его спросила: "Придет Евгений Иванович сюда?" Говорил, что нет. Я очень растерялась, потому что боялась, что он уедет к Черткову и я его больше не увижу, а хотелось ему сказать, чтобы он пошел к папа. Я пошла со Столяровым до М. П. Фет узнать о ее здоровье (она была еще жива), потом Столяров пошел к Евгению Ивановичу. Я ему крикнула, чтобы он звал его к Толстым, Столяров опять ответил, что он не придет, и пошла к Толстым. Дождалась Столярова, который принес ноты и сказал, что Евгения Ивановича нет дома. Я сейчас же подумала, что он, наверное, у папа, и, сказав, что пойду за Машей, побежала домой. По дороге встретила ее с Колей и Лизой Оболенскими и попросила Колю и Лизу идти к Толстым. Расспросила Машу, что делается у нас дома. Маша говорит: папа пошел к Жене. Мы сообразили, что, значит, они пошли вдвоем пройтись и поговорить, как вдруг Маша посмотрела на ту сторону улицы и говорит: "Вот он, Женя",- и стала звать его. Он пришел, а Маша ушла к Толстым.
Не помню, что мы говорили, оба были ужасно взволнованы. Мне казалось, что он плакал. Щеки у него жалкие, впалые. Потом пришел папа и сказал, что надо начать с того, чтобы не делать ничего исключительного, что если встретились, то разойтись. Мы тут простились. Он сказал, что, должно быть, не придет к Толстым, но пришел. Сидел в гостиной на диване, и я долго не решалась подойти к нему. Потом пришла, и мы много говорили очень откровенно и хорошо. Решили не давать больше дневников друг другу и не говорить о наших отношениях. Не помню, что мы еще говорили. Он ушел раньше меня.
Папа на другой день очень рассердился, когда узнал, что он был у Толстых, и думал, что когда он нас оставил на улице, то я его подозвала и сказала прийти туда. Он Маше говорил, что я его идеализирую и что ему больно и обидно за меня.
Вечером Женя пришел к нам. Я его мало видела. Он говорил с папа. Принес мне мой дневник и в нем письмо.
Вчера я его видела в последний раз. Пошла утром в "Посредник" (большой), немножко думая, что, может быть, и он туда придет. Так и вышло. И когда Горбуновы все ушли обедать, мы с ним остались и долго говорили. Уговор свой нарушили: говорили "об этом", как папа иронически говорит. Говорили, писать ли друг другу. Я говорила, что, может быть, лучше совсем не писать. Но он говорил, что почему, если я писала бы всякому своему знакомому - Репину, Пастернаку,- то не буду писать ему? Я говорю, что "ну, хорошо, я буду писать, как дети". Тогда он говорит, что как же он не будет знать, как я живу. Но потом оговорился, что, может быть, он опять меня сбивает и чтобы я думала и решала сама, как лучше. Я сказала, что буду унывать, но что вообще ничего, постараюсь быть бодрой и энергичной.
Смотрела на него и думала, что очень люблю его - много нитей протянуто между его душой и моей, но нет влюбления. Он должен был на другой день (т. е. сегодня) уехать, и мне не было страшно и грустно. Почему это?
Из "Посредника" пошла к Матильде узнать о здоровье Миши Олсуфьева, который здесь один и болен, но не застала ее, а возвращаясь, Женя меня нагнал и мы опять говорили об "этом". Он спрашивал, как я, не браню его? Но я не понимаю, за что его бранить. Я сама взрослая, и если не сумела сделать так, чтобы эта дружба дала одни только радости, оставаясь дружбой, то виновата я столько же, сколько и он. Оба мы хороши - хуже детей.
Вот больше я его и не видала. Когда я папа сказала, что он написал мне и что мы виделись, папа опять очень рассердился. Говорил, что он не хочет меня отпустить и неправдив, а что вчера говорил ему, что ему очень легко отвыкнуть от меня и что он только меня жалеет. И ужасно ему было за меня оскорбительно и больно, и он говорил вещи, о которых, наверное, потом пожалел. Да он мне это и сказал потом, что он молился, чтобы не сердиться и не осуждать и что он хочет повидать его еще, чтобы поговорить с ним*.
* (23 марта Толстой записал в Дневнике: "Событие и важное и тяжелое это установившиеся у Тани отношения с--------------*. Самые чистые, хорошие, дружеские отношения, но исключительные. Это было скрытое влюбление. Она мне сказала, и я говорил с ним. Они решили откинуть все излишнее, исключительное. Он уехал" (т. 52, с. 112). )
Сегодня утром перед отъездом своим Женя заходил. Я была одета, но мне было так жутко его увидать, что я просидела у Маши в комнате все время, а когда вышла, он уже ушел.
И у меня осталось неудовлетворенное чувство, что я не простилась с ним, не повидалась перед отъездом. Бедный он, одинокий совсем, и теперь папа от него отвернулся. Я папа сегодня говорила, чтобы он не осуждал его, что он очень строг к себе и старается всегда быть добрым и правдивым, но боялась, чтобы папа не испугало то, что я его очень хвалю.
Я себя странно чувствую сегодня: далекой от всего, безучастной и разбитой. Иногда мне кажется, что то, что со мной случилось,- просто пошлый роман, а минутами кажется, что вмешательство Маши и папа придали нашей дружбе этот оттенок, а что на самом деле были хорошие, серьезные, сердечные отношения, какие я желала бы иметь со всеми, и совершенно напрасно их разбили и разрушили.
Едет теперь в вагоне. Только завтра в 5 часов он будет у Черткова. Да, буду ему писать. Не сегодня и не завтра, а так, через недельку.
24 марта.
Опять потребность строго, строго взять себя в руки и жить сурово, беспощадно самой к себе и не позволять себе никаких украшений жизни.
То, что произошло, много испортило в моей жизни, расслабило и избаловало меня. Я думаю, что всякий такой случай должен оставить нехороший след. Я не осуждаю Женю за участие в этом, скорее осуждаю себя, но просто жалею, что это произошло. Я боюсь, что у них с папа отношения будут нехорошие, что папа его слишком строго осудит и у Жени будет к нему нехорошее чувство. Мне это очень будет жаль. Женя всегда так любил папа, так добро принимал минуты раздражения, которые у папа бывали на него, что будет очень тяжело, если это теперь испортится. Мне будет жаль Жени, потому что если это случится, то он будет страдать от этого. Мне хотелось бы написать ему, чтобы он не осуждал папа и кротко бы перенес и простил бы, если папа к нему отнесется не вполне добро. Но я думаю, что этого не будет. Папа очень мягок и добр, хотя с нем живет обида и ревность за меня.
Ах, как жаль, что все это случилось!
Думаю о Жене почти постоянно. Не стараюсь вырвать этой привязанности, но стараюсь, чтобы она не мешала жить. И то бы хорошо пока.
Сегодня встретила Страхова на улице, и он говорил, что очень грустно проводил Женю, что он слаб, доктора сказали, что он худосочен и всякая болезнь может быть опасной.
Была у Марьи Васильевны. Старалась говорить с ней любя ее, и это удавалось. Но было опять маленькое гадкое чувство оскорбленного аристократизма.
Папа очень ласков.
Переписывала Мопассана. Это единственное дело, за которое я взялась с самого приезда. Надо подобраться и взяться, если не за дело, то за занятия.
Говорила с Верой о бедности. Что как хорошо жить, когда нет ничего обеспеченного, и что для того чтобы завтра есть, надо заработать деньги на это. Говорили о физическом труде. И мне более, чем когда-либо, уяснилось то, что это необходимо для всякого человека и, в частности, для меня. Вместо того чтобы делать бесплодные потуги, чтобы что-нибудь сделать в области умственной, надо начать с того, чтобы употребить свои мускулы, которые гуляют. Достаточно ли сильны мой ум и способности, чтобы что-нибудь дать в области мысли или искусства,- еще неизвестно, а что руки мои всегда могут работать - это наверное. Маша получила удивительно умное и милое письмо от Колички Ге, и я подумала, что, может быть, то, что он много работает физически, способствует этой ясности и силе ума.
Не могу не думать о Жене. Что он думает, чувствует? И неужели я больше не буду читать его дневников, не запущу руку в его душу и не ощупаю ее всю во всех уголках?
А ведь надо отвыкать. Когда же я привыкну жить одной с богом? Все хочется липнуть к кому-нибудь, а это всегда приносит страдания.
27 марта.
Все постыдно путаюсь. Да, такое происшествие надолго оставляет дурные следы. Я ничего не могу делать, ни о чем говорить; болтаю вздор или говорю о том, что не выходит из головы. Встаю поздно, комнаты не убираю, раздражаюсь, скучаю. Плохо это.
Меня мучает сплетня, которая распространилась по нашим колониям и которой все поверили. Сегодня говорила об этом с Иваном Ивановичем. Он об этом слышал и хотел с папа об этом поговорить. Конечно, он не верит и ужасно огорчился тому, что во мне могла быть тень сомнения. Очень жалел Женю, говорил: "Бедный, бедный он человек. Это потому, что он сердечный и добрый, потому, что он принимал к сердцу ее положение, говорил с ней об этом, на него это наговорили". Говорил, что он жил с ним у Черткова среди женщин, и хотя видел, что его всегда притягивали женщины и он их, но видел вместе с тем, с какой чистотой он к ним относился. Рассказывал, что когда с Агашей случился грех, то она говорила, что этого не было бы, если бы был здесь Евгений Иванович.
Он очень волновался, ходил по комнате и говорил, что ему так больно за Евгения Ивановича, что именно я, которая знает его больше других, могу сомневаться в нем. Он говорил, что никто не застрахован от факта падения, но что если бы это было, то Евгений Иванович что-нибудь предпринял бы: жил бы с ней, как с женой, признал бы ее своей женой перед другими или что-нибудь подобное.
Я сказала ему, что я передо всеми отрицаю эту отвратительную сплетню, и только ему показала ту крупинку сомнения, которая закралась оттого, что все так глубоко убеждены в ее справедливости, и главное оттого, что она сама на него говорит.
Мне все время было ужасно тяжело и унизительно. Унизительно то, что зачем я лезу в эту грязь, говорю о ней, почему меня это может тревожить и интересовать? Допустим даже, что это правда, что мне за дело до этого? А вместе с этим думаю, что мне надо это знать, и вместо того, чтобы мучиться сомнениями, которые так и останутся неразрешенными, лучше спросить и увериться в том, что это или правда, или неправда. Тяжело мне то, что я себя чувствую ужасно виноватой перед Женей. Кабы он знал, какие у меня могут быть дурные мысли по отношению к нему!
Утром я просматривала его дневники с точки зрения папа, если он их прочтет, и в первый раз ясно увидала, что я его с самого начала завлекала и старалась привязать к себе. Сознательно или бессознательно - все силы были на это направлены, и одно мое оправдание, это то, что я сама увлекалась все больше и больше. И если он меня удерживал и жалел расстаться с этой привязанностью, это только теперь, в конце, когда я его опутала по рукам и по ногам. Да, это дурно, дурно. Накокетничала, запутала его, и еще подозреваю в разврате. Какая я мерзкая! Откуда эта испорченность, которой я заражаю всех, с кем прихожу в соприкосновение? Вера говорила, что она боится, что я теперь завлеку Ивана Ивановича, и я чувствую то же желание to gather my skirts round me*, чтобы не заразить его чистую душу, какое я чувствовала в Париже, когда соприкасалась с француженками, но обратно: тогда я боялась заразиться, а теперь я боюсь заразить.
* (не запачкаться (англ.).)
И эти платья, прически, шляпы с перьями - все это именно это: желание нравиться, завлекать. Ах, как мерзко! И куда деться от этого? Это Иван Иванович указал мне это. Невольно, мягко, добро, но тем более сильно. Спасибо ему, милый человек.
Мне было приятно видеть, как он глубоко и сердечно любит Женю. По нескольким словам Ивана Ивановича я увидала то же самое: так много уважения и любви к нему, что у меня сердце порадовалось.
Папа с Машей у Черткова. Там же Женя и Поша. Галя очень больна. Уезжая, папа со мной разговаривал о Жене. Я ему сказала, чтобы он просил его дать свои дневники и тогда я дам свои. Мне будет мучительно стыдно, но мне жаль, что папа не все ясно видит, а главное, я уверена, что его обида и недоверие к Жене пройдет, если он прочтет его дневники и увидит всю его душу.
Ездила вчера в приют в Мытищи с Верой. Чудный день, красивая дорога, и говорили с ней интересно и хорошо. Ездила проведать девочку, которую туда поместила, и почувствовала, что то, что началось почти с забавы - мое участие в ее судьбе,- начинает делаться серьезным и накладывать на меня обязательства. Мать ее отравилась, отчим умер от чахотки; осталась у ней сестра, служащая в театре Омон и легкомысленного поведения, и я. И я чувствую уже с сестрой молчаливую борьбу за эту девочку. Я хочу взять ее на лето и сестра. Но сестре ее не отдадут, а мне позволят ее взять, и я себя спрашиваю: имею ли я на это право? Иван Иванович говорит, чтобы я выписала к себе сестру и поговорила бы с ней хорошенько о том, считает ли она хорошим для Кати жить у нее и видеть пример ее жизни, и не найдет ли она лучшим предоставить ее мне. Думаю, что так и сделаю.
3 апреля.
Приехал Поша от Чертковых, привез известие, что завтра папа с Машей приезжают, и письмо мне от папа. Письмо длинное, писанное в три приема по ночам и ужасно огорченное. Он боится увидать меня и мое душевное состояние, боится, что я буду бороться с собой из любви к нему и страха общего мнения, и, видно, ему очень, очень больно и обидно*.
* (За одну неделю Толстой написал старшей дочери три письма об ее отношениях с Е. И. Поповым: 22?, 28, и 29 марта мягко, но решительно осуждая. "Я вижу тебя, как человека, который лег на рельсы и не видит поезда, а поезд надвигается, и, если человек со всей возможной поспешностью не вскочит, он будет раздавлен" (т. 67, с. 96). Письмо Л. Н. к Е. И. Попову от 4-5? апреля см. там же, с. 96-98. )
А мне страшно, что с меня так быстро и легко соскочило все мое увлечение. Вчера еще, до письма, я себя спрашивала, почему это, старалась вызвать в себе что-нибудь похожее на прежнее чувство, и не могла. Я себе говорила, что, может быть, это временное освобождение, и вчера надеялась на то, что это так, т. е. что это временное; а сегодня хочется сознавать, что это - полное выздоровление. Я думаю, что от меня зависит сделать, чтобы это так и было. Я добросовестно старалась понять, что я чувствую, чтобы это правдиво рассказать папа: я думаю, что нас с ним радовала и волновала та (кажется, воображаемая) любовь, которую мы видели друг в друге. Я не любила, но как бы любовалась на себя в нем, на его отношение ко мне. Он тоже: ему льстило и его волновало то доверие, которое у меня было к нему, и это перешло в влюбление. И мы друг перед другом играли в любовь, не ощущая ее. Поэтому он жалеет меня, а мне кажется, что я его завлекла. Я себя спрашиваю: почему же я могла плакать, мучиться от ревности? И думаю, что это всегда можно вызвать, что это оттого, что было влюбление, искусственно вызванное, но тем не менее довольно сильное.
За все это я теперь испытываю стыд и чувство унижения. Но к нему у меня нет ни ненависти, ни обиды, и я не могу так дурно о нем думать, как папа. Он - хороший человек, и если натура у него неправдивая, то он изо всех сил старается не лгать и жить лучше. И жизнь его тяжелая и одинокая. Это злобное отношение его жены к нему, положение покинутого, презираемого мужа, с родными, которых он не может уважать, слабый, хилый, а теперь потерявший самого дорогого, близкого человека - папа, и еще оклеветанный. Мне жалко его и у меня рука на него не может подняться, да и не за что. Если я увидала в нем одну слабую сторону, это не причина, чтобы я перестала его уважать за все хорошие. Я могла бы теперь легко совсем опять относиться к нему, совсем как прежде - давно - и так же, как к остальным "посредниковцам", если бы не было этого постыдного прошлого. Теперь будет неловко, может быть, на время, но я думаю, что скорее навсегда. И мне не хочется его видеть, хотя я этого не боюсь нисколько. Мне ужасно жалко, что папа так огорчен, и я себя браню и ненавижу за это. Я помню, как я Машу за это упрекала и сердилась, что из-за какого-то У. она заставляет папа мучиться и страдать. Мне придется папа сказать хуже того, что он предполагает, то есть что опасности для меня нет никакой, а что была игра в любовь. Это было бессознательно, пока это продолжалось. И только изредка бывали минуты, когда я чувствовала, что надо было себя подгипнотизировать, чтобы поддерживать это чувство, а теперь, когда мне захотелось, чтобы это прошло, я увидела, что нечему проходить - ничего нет. Я хотела бы, чтобы Евгений Иванович знал это. И хотела бы, чтобы это всегда было так. А вдруг это опять откуда-нибудь всплывет? Но теперь я не буду поощрять этого и это не страшно.
Ах, как гадко, что это все случилось! И бедный мой милый старик мучается и не спит ночей от этого. Мне даже совестно, что я сплю и ем за десятерых и что так мало основания его страхам.
Нет, он прав в одном: что это могло сделаться опасным от какой-нибудь случайности, и я это всегда чувствовала и боялась этого.
11 апреля 94.
Перечла последний день и должна сказать, что да: во мне всплывает часто то влюбление, или желание любви, или кокетство - не знаю что,- что я испытывала прежде. Я скучаю по Жене и, кроме того фонда серьезной любви и уважения к нему, во мне поднимается потребность его ласкового обращения со мной и внимательности и интереса ко мне. Это не сильно, и я не отчаиваюсь от этого отделаться, но я это часто испытываю.
У меня много неприятностей за последнее время: во-первых, то, что все "что-то" знают и об этом говорят. Наверное, совсем не то и не так, как это есть. Мама говорит, что не пустит его в дом. Это она говорила Коле. Мне теперь предстоит ей сказать, что если она не пустит его в дом, то она меня принуждает ходить к нему, если мне понадобится его видеть, чего я не хотела делать. Мне очень жалко мама: она мучается, чувствует свое бессилие и не знает, как ей со мной поступать. Я хотела несколько раз хорошенько поговорить с ней, но она начинает сейчас же кричать, что она купит револьвер и донесет губернатору, что все темные - анархисты и т. п. Это трудно, а надо постараться, не отступив от правды, ее успокоить. Мне это легко, когда мне ее жалко, и надо стараться, чтобы это чувство не проходило.
Вторая неприятность - это что папа мне рассказал, что Хохлов ему сказал, что он в меня влюблен. Фу, неприятно писать! Хочется кричать, бежать, спрятаться. И я не знаю хорошенько, отчего это всегда меня так тревожит? Гордость ли это? гадливость? осуждение себя? Я думаю, всего понемногу. И обида, что из того, что я, стараясь преодолеть свое чувство несимпатии, отнеслась по-человечески к нему, вышла такая гадость. Папа боится за Касаткина, Маша за Цингера, Вера за Ивана Ивановича. Как это мерзко! И мне на тридцатом году надо думать о том, что я опасна для мужчин, и оберегать их от себя. Как унизительно. И как глупо!
Папа читал дневники Жени и мои. И, читая Женин, он сказал Маше, что он хороший человек и искренно пишет. Я рада. Для этого я и просила Женю позволить ему прочесть их. Но сейчас, отдавая их мне, он сказал, что когда о них вспоминает, то ему неприятно.
Толстые уехали сегодня. С Верой отношения делаются значительнее как-то и дружба теснее. Я радуюсь этому.
Ярошенко приехал писать папа. Завтра начнет*.
* (Портрет Толстого работы Н. Я. Ярошенко хранится в Русском музее в Ленинграде. Толстой высоко ценил картину Ярошенко "Всюду жизнь". Первоначальное название ее было "Чем люди живы?", так как сюжет навеян рассказом Толстого.)
Сережа здесь. Лева все в том же положении и часто мне неприятен тем, что слишком много думает о себе и извиняет себе все, оправдываясь болезнью. Впрочем, я, может быть, и почти наверное, не права. Это мне так кажется.
Миша Олсуфьев в Москве и болен уже недель пять. Я каждое утро завожу ему молоко от нашей коровы, когда езжу к Пастернаку. Вчера он кричал мне, что прибежит к нам первым, когда выздоровеет, чтобы благодарить за молоко, и мне приятно было слышать его голос. Хорошее, чистое создание, недаром я его так долго любила.
Чертковы думают летом жить в соседстве Ясной. Это меня пугает и радует. Пугает то, что Владимир Григорьевич слишком будет вмешиваться в работу папа и в нашу жизнь и будет почти насильно требовать от нас исполнения его советов и наставлений. Но напрасно я это вперед думаю и пугаюсь этого.
С Машей у нас хорошо. И мне стыдно, что я о ней могла когда-нибудь дурно писать. Она гораздо лучше меня во многом и, кажется, больше меня любит, чем я ее (хотя иногда мне кажется обратное). Во всяком случае, она гораздо лучше и добрее ко мне относится, чем я к ней.
Надо отделаться от бессмысленного чувства соревнования с ней и стараться прощать ее влюбление и кокетство.
Самая трудная внутренняя моя работа теперь - это уметь стариться. Всякие глупые молодые мечты надо из себя убирать, и когда начинаешь этим заниматься, то видишь, сколько в себе этого хлама.
11 мая 1894. Ясная Поляна.
Давно не писала. Привыкла писать, думая, что это прочтет другой, и казалось, как будто не стоит писать для самой себя.
Последний дневник мой папа весь прочел, и я чувствую, что он разочаровался во мне. Он сказал, что я перестала ему "импозировать"*, как прежде, но я вижу под этим то, что он перестал меня уважать и стал немного меньше любить. Я всю жизнь чувствовала, что он во мне обманывается, считает меня лучше, чем я есть, и боялась, и желала, чтобы у него открылись глаза, и вот теперь я и жалею, и радуюсь тому, что это произошло. Но сейчас плачу, пиша это. Он увидал, что я глупая и слабая, и хотя хорошо, что его иллюзия кончилась, мне жаль его отношения*.
* (21 апреля Толстой записал в Дневнике: "Москва. Почти месяц не писал. За это время были у Черткова с Машей. Прекрасная поездка <...> Отравило поездку распутывание Таниного тяжелого дела. Как они, бедные, слабы! <...> Читал их дневники. Мучительно было и хорошо. Это сблизило меня с Таней еще больше. Она мне импонировала своей привлекательностью и грацией. А она такая маленькая, шаткая, слабая, но милая девочка" (т. 52, с. 114). )
* (внушать почтение (от франц. imposer).)
Последнее время, как бы в отместку за это, я думаю, оттого, что я почувствовала себя свободной от того рабства, в которое я себя добровольно поставила, я почувствовала в сильной степени прилив молодости, желания нравиться, и чувствовала опять то пьянство успеха, какое испытывала в ранней молодости. И мне было очень весело. Особенно тогда весело, когда чувствуешь успех, но это едва высказывается. Касаткин пересолил, прямо объяснившись мне в любви. Это было тяжело, стыдно и заставило меня раскаиваться и серьезно подумать о том, как смотреть на эту свою сторону, которая для меня так важна и занимает такую большую часть моей жизни. Я всю жизнь была кокеткой и всю жизнь боролась с этим. Я сегодня думала о том, что кабы кто знал, что мне стоило прожить так, чтобы не попасться ни в один роман, ни разу не поцеловаться ни с кем, не удержать человека, который любит и которого любишь, когда брак был бы неразумен. Иногда я жалею о том, что я так боролась с этим. Зачем? Но как только простое кокетство начинает переходить в более серьезное чувство, то я опять это беспощадно ломаю и прекращаю. Того, чтобы никогда не кокетничать, я еще не добилась, но чувствую, что это теперь уже на рубеже ridicul'ности*, и это меня останавливает больше, чем нравственное чувство. Мне жаль того, что я совсем потеряла то страстное желание остаться девушкой, которое было последние года и особенно было сильно после "Крейцеровой сонаты". (Надо это перечесть.)
* (смешного (от франц. ridicul).)
Теперь я думаю, что если это попадется на моей дороге, я пройду через это, и скорей желаю этого, как застраховки от разных флиртов. Я думаю, что здоровому молодому человеку, не особенно сильному нравственно, трудно прожить одному, никогда не жалея о том, что не было любви, детей, всех этих радостей и тяжестей семейной жизни.
Впрочем, что будет, то будет. Надо все принимать с кротостью и благодарностью. Я это отчасти и делаю, постоянно радуясь на жизнь. Папа меня прозвал оптимисткой, а Машу пессимисткой.
Мы живем в Кузминском доме: Маша, Марья Кирилловна, я и Лева с Мишей, которые приехали сегодня. Лева все еще имеет вид нездоровый, но хочет, чтобы его считали еще более нездоровым, чем он есть. Сегодня приехавши, он сразу захотел дать нам понять, что ему очень плохо, и когда мы отдали ему дань сожаления и сочувствия, то он развеселился. Я его действительно очень жалею и думаю, что он много борется с собой, чтобы не быть ворчливым, неприятным и не жаловаться постоянно на свою болезнь.
15 мая.
Сегодня я слаба, слаба. И физически, и душевно. Плакать хочется, грустно, мрачно и тяжело физически. Все кашляю, и это меня угнетает. Говорю себе, что не имею права наводить уныние и скуку на других, но трудно себя пересиливать. Слабость душевная, как и твердость, имеет свои хорошие стороны. С тех пор, как я чувствую свое душевное расслабление, я стала гораздо откровеннее, гораздо уступчивее, не могу долго сердиться на кого-нибудь, жалостливее. И твердость имела свои хорошие стороны: я всегда переживала все одна и мужественно боролась со своими горестями, никому о них не говоря, и была более строга к себе. Обратная сторона этого была та, что я была строга и к другим. И я теперь иногда с ужасом и стыдом вспоминаю, как я могла бывать жестокой. Я и теперь не добра, хотя знаю, что даже теперь не надо отчаиваться, чтобы когда-нибудь сделаться лучше.
Мы - три сестры - идем лестницей. Маша добрее меня, а Саша еще добрее. В ней врожденно желание всегда всем сделать приятное: она нищим подает всегда с радостью. Сегодня радовалась тому, что подарила Дуне ленту, которую ей мама дала для куклы, потом сунула Дуничке пряников. И все это не для того, чтобы себя выставить, а просто потому, что в ней много любви, которую она на всех окружающих распространяет. Маша лечит, ходит на деревню работать, а я пишу этюды, читаю, копаю питомник, менее для того, чтобы у мужиков были яблоки, сколько для физического упражнения, и веду папашину переписку, и то через пень колоду. Плоха я; все лучше. Умирать еще нельзя, а стало часто хотеться.
Ге говорит, да и все, я этого не думаю - что папа меня гораздо больше Маши любит. В последний раз, как я писала дневник, только что я кончила, он вошел и спросил, что я пишу. Я сказала, что дневник. Он спросил: о чем? Я стала ему говорить и вдруг разрыдалась. Он очень перепугался и смутился и стал утешать меня, что он нисколько не изменился ко мне, что то, что он во мне знает, то любит по-прежнему, и что его радует, что мы его любим, что это очень хорошо и что он никогда этому не верит. Говорил, что, прочтя мой дневник, я перестала ему "импозировать", что я такая самоуверенная всегда и что-то еще. Маша услыхала из своей комнаты мой дикий рев и пришла смотреть, что со мной. Мы с ней живем очень дружно. И с Левой тоже. Он очень мил. Я боюсь, что ему скучно, и не умею его развеселить.
Я видела во сне на днях, что я сразу родила шестерых детей, из которых два последних были уроды, но не могла вспомнить от кого,- знала только, что незаконно. И старалась во сне найти хорошую сторону этого, говоря себе, что если моя гордость и самоуверенность не сделали своего дела, то, может быть, позор и смирение будут для меня полезнее.
Думала сегодня о том, как люди сочиняют, потому что сидела одна в зале и дополняла и разрабатывала те картины и рассказы, которые у меня в голове. Иногда какую-нибудь картину увидишь в жизни и целиком ее возьмешь, немного для удобства изменив; другой раз случайно какая-нибудь фраза произведет впечатление, западет в голову, потом рядом другая. Стараешься их так скомбинировать, чтобы между ними была связь, нападешь случайно на сюжет - и пойдет мысль дальше. Так же с картинами: где-нибудь на штукатурке отвалившейся увидишь фигуру, она наведет на мысль, тут поможет фантазия, и выдумана целая картина. Конечно, все это будет носить отпечаток души и образа мыслей того человека, который сочиняет, и будет настолько хорошо или дурно, насколько тот человек хорош или дурен.
Вчера утром было хорошее, интересное письмо от Евгения Ивановича о его поездке за материалом для биографии Дрожжина. Описывает, как живут Алмазова, Анненкова, Ге, и мне стало за себя стыдно. Папа ему ответил в тот же день ласковым письмом*, и я приписала несколько слов о делах. Мне было весь этот день весело. А сегодня я глупа, глупа, слаба и, должно быть, буду нездорова. Очень ломает всю. Холодно, ветер в окна дует, на дворе темно, собаки лают, в комнате часы тикают. Все это не располагает к энергии и веселью.
* (См. т. 67, с. 121. )
3 июня 94.
Больна, жар, и горло болит. Последнее время тосковала, скучала о том, что у меня отнят друг. Не знаю, о нем ли именно или вообще о любви скучала, но надо было себя взять в руки и мысленно строго выругать. Сейчас ушла от меня Марья Александровна. Говорила о Чертковых, о том, как тяжело было ей жить у них, потому что с их принципами они так мучили живущих у них людей, что одна из прислуг упала раз от усталости. А Маша говорит, что Марья Александровна видит в людях только хорошее и что это отсутствие проницательности очень завидно. Я думаю, что это не завидно. Завидно то, чтобы, видя все нехорошее, быть в состоянии это прощать, и этого мне хочется добиться.
На днях с папа разговаривали. Он видел, что я скучаю, и утешал меня. Говорил мне, чтобы я не унывала, что я еще настолько привлекательна, что могу еще не отчаиваться. Говорил, что ничего нет в Евгении Ивановиче, что бы я могла любить. Мне совсем не этого от него нужно было: я всегда от него жду и желаю строгости. Я хочу, чтобы он мне говорил, что совсем мне не нужно любви, что ее, наверное, больше не будет и не должно быть. Я себе это постоянно говорю, но в слабые минуты чувствую себя одинокой и пугаюсь этого.
Вокруг много арестов и обысков. Булыгин сидит в Крапивне на две недели за отказ вести своих лошадей для записывания, Кудрявцев в тюрьме за переписку сочинений папа, Сопоцько в Петербурге арестован мы не знаем за что. Должно быть, и до нас дело дойдет. Я этого жду почти без страха и даже почти с некоторой долей радости. Но вернее всего, что нас не тронут, а теперь доберутся до "посредниковцев", и этого я боюсь. Я думаю, что для меня хороша была бы такая встрёпка, а то я стала изнеженна, эгоистична и озабочена собой до бесконечности. Страшнее всего мне за мама в этом случае: она очень страдала бы и у нее не было бы даже того утешения, что она терпит это во имя своих верований. Папа часто говорит, что был бы рад гонениям, но я думаю, что и ему это было бы тяжело.
Сейчас Чертковы у нас в том доме. Они для меня мало заметны. Я думала, что Чертков больше будет иметь для меня значения.
13 июня.
Смерть Ге*. Разговор с Галей о Ваничке. Письмо Сопоцько и проезд государя. Галя говорит о том, что Женя ей говорил, что всегда влюблен: прежде в М[ашу], потом в меня. Чтения. Письмо Колечки. Письмо Жени.
* (Художник Н. Н. Ге скоропостижно скончался в ночь на 2-е июня. 7-14 июня 1894 г. Толстой писал П. М. Третьякову: "Вот 5 дней уже прошло, как я узнал о смерти Ге, и не могу опомниться. В этом человеке соединялись для меня два существа, три даже: 1) один из милейших, чистейших и прекраснейших людей, которых я знал, 2) друг, нежно любящий и нежно любимый, не только мной, но и всей моей семьей от старых до малых, и 3) один из самых великих художников, не говорю России, но всего мира" (т. 67, с. 153).- См. о нем: Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1976, с. 257-297.)
14 июня.
Ехала из Тулы, где подписывала условие с рудаковскими мужиками о продаже им земли, и негодовала на себя. Почему я с них беру деньги за землю, которая, вследствие каких-то подписей, стала считаться моей, и зачем я это признаю, беру их деньги и подписываю бумаги? Всю жизнь я жду случая, чтобы сделать подвиг, и не понимаю, что если я так труслива и слаба в таких маловажных случаях, то, конечно, перед всяким подвигом остановлюсь.
Говорят, что мужики собираются меня как-то обмануть и после купчей нанять адвоката, чтобы снять нынешний урожай в свою пользу, а я нотариусом себя от этого ограждаю. Все это невыносимо противно и тяжело, и я все спрашиваю себя: зачем, во имя чего я это делаю? Я везла в пролетке пуд сахару для варенья разным друзьям, два столика в мастерскую и т. д. и думала: неужели я из-за сахару и столиков делаю такие гадости?
Вчера я ездила верхом в Ясенки и к Чертковым. По всей линии расставлены солдаты, жандармы и понятые с разных деревень для охраны царя, который должен был проехать. Мужики, пригнанные из разных дальних деревень без платы, ночующие под открытым небом, едящие сухой хлеб в продолжение нескольких дней, очень ропщут и сердятся. Солдаты ходят со штыками. Все это производит очень дурное впечатление.
На Ясенках получила письмо от Сопоцько из дома предварительного заключения, где он сидит, с штемпелем: "просмотрено товарищем прокурора Окружного суда", и перечеркнутое желтой жидкостью, чтобы видеть, нет ли чего-нибудь написанного тайно.
Это произвело на меня* еще худшее впечатление, и, ехавши домой, я думала: с какой стороны я участвую в этих делах и что мне сделать, чтобы выразить свой протест подобным поступкам? И опять отвечала себе то же: надо избавиться от собственности, которая в прямой связи с этими явлениями. Думала, какой этот товарищ прокурора, который может без стыда делать такие нечестные поступки? Может быть, милый, веселый, влюбленный молодой человек, не понимающий, что делает, но наверное инстинктивно чувствует, что что-то неладно.
* (М. А. Сопоцько писал Толстому из дома предварительного заключения в Петербурге, где он находился уже месяц. Толстой ответил 13 июня 1894 г.: "... я был очень рад узнать о вас и из вашего письма увидать, что вы переносите совершаемое над вами насилие с бодрым духом и сознанием своей неотъемлемой рабами свободы" (13 июня 1894 г., т. 67, с. 152).)
Папа получил письмо Евгения Ивановича, в котором он пишет, что на злое письмо его жены, требующей развода, он сначала отвечал, что не может лгать, а потом написал, чтобы она присылала бумаги и что он их подпишет. Он пишет, что знает, что это поступок нехороший и что за него многие его друзья отвернутся. Чертков написем, убеждая, чтобы он опомнился, и папа, хотя мягче, но тоже написал совет не делать так, как он решил. Я прочла эти письма, и мне стало больно за Женю, когда я представила себе, что он их прочтет. Я знаю, как он будет страдать, когда он получит бумаги от жены, и подпишет или не подпишет их он, ему будет одинаково нехорошо. Я думаю, что он не будет в состоянии их подписать, и ему будет еще тяжелее оттого, что он это обещал. Мне ужасно его жаль. Я много о нем думаю и люблю его. Вчера я почувствовала в первый раз, что эта привязанность пустила глубокие корни и что вырва труднее, чем я думала; а то мне все казалось, то стоит хорошенько пожелать и не останется от нее и следа. Да, надо найти тот штопор, которым бы ее извлечь. А иногда я думаю, что это просто желание любви, а сам человек ни при чем.
Я кое-что сказала Гале про это, а она мне рассказала, что он говорил ей, что всегда влюблен: то был в Машу, а теперь в меня. Это было в прошлом году. Меня это покоробило, обидело и заставляет морщиться и стонать, когда я одна вспоминаю об этом. Этот легкомысленный тон, когда я придавала такое серьезное значение нашим отношениям, эта смелость сказать про меня такую обидную вещь. Да еще женатый человек!
Ах, как это все нехорошо, и как надо это изменить. Ведь он же признал, когда папа сказал это, что это - влюбление, а я все не хочу этому поверить. А я не признаю, что влюблена, и думаю, что если бы он любил меня, как я его, то тут ничего грешного нет. Ну, будет, будет об этом. Опять я теряю на это мысли, чувства и время. Чертков его выписывает в Деменку на один день и хочет меня предупредить, чтобы я к ним не ходила в этот день. А я на это возмутилась: почему и отчего Чертков нас будет опекать и ограждать? Что ему до нас за дело? Я себе представила, что буду сидеть дома и не сметь идти в Деменку, и мне стало унизительно. Точно мы - не взрослые. Я не хочу, чтобы мне говорили день, когда он приедет, и надеюсь, что он сам его не назначит, а я буду ходить к Чертковым, как всегда.
22 июня.
Не писала о смерти милого дедушки, а это произвело очень сильное впечатление на меня, как всегда хшее, умиленное. Жалеешь только о том, что мало показывала любви и заботы и мало пользовалась им, как будто думая, что всегда успею. После его смерти у меня стало гораздо осторожнее отношение ко всем людям, особенно старым. Все думается, чтобы не сказать, не сделать того, в чем потом раскаиваться и о чем жалеть. Это - хорошо, эта постоянная мысль о возможности своей и чужой смерти.
С бедным Женей все разные невзгоды и трудности, и я тут мучаюсь и боюсь за него. У него был обыск, и хотя он вел себя хорошо, но пишет, что ему страшно и он себя чувствует слабым. А я не могу ему даже написать, что я думаю о нем и жалею его, потому что должна для него желать, чтобы он меня не любил и забыл.
Папа, Чертков и Маша меня ужасно мучают, и я жалею, что я говорила им про наши отношения. Папа мучает меня тем, что сам мучается и боится за меня. Чертков упрекает меня в том, что я испортила Женю, что он стал слабый и неразумный с тех пор, как со мной познакомился. Говорит: "что вы с ним сделали? Прежде никогда не могло бы с ним случиться того, на что он теперь способен". Он меня так замучал, что я расплакалась. Потом он написал Жене, что его развод еще тем нехорош, что он вредно повлияет на "одного из членов любимой нами семьи". Все это грубо и бестактно. Я на него не рассердилась и сейчас ни капли дурного чувства не имею на него, но это меня замучило. Женя, спасибо ему, ответил, что он этого пункта совсем не понял. Маша тоже путается в это очень неловко, а раз даже ужасно обидела меня. Нет, не буду вспоминать об этом, а то опять поднимется раздражение на нее. Я до сих пор ей этого не простила, и хотя старалась, и папа мне в этом помогал, понять и извинить ей эту выходку, но каждый раз, как вспомню, негодую и удивляюсь ей.
Папа вчера сказал, что ему все кажется, что что-то должно кончиться, разрушиться и что, наверное, в этой пристройке никто жить не будет. Я то же думала на этих днях и представляла себе эту пристройку с заколоченными окнами без рам. Возможно, что нас сошлют.
Я очень сблизилась с Галей. Она - милая женщина, иногда совсем ребенок, а в некоторых вещах очень серьезна и сознательна. Мы говорили с ней о воспитании, и она рассказала мне, как ей больно было слышать про то, как Ваничка считает Ясную своей и как ему это говорят. И, говоря это, у нее подбородок затрясся и она заплакала. И я за ней. Она говорит, что ее так пугает то, чтобы "соблазнить одного из малых сих", что она страшнее греха себе представить не может. Говорили мы с ней о Димочке, и я ее спрашивала, что ей страшнее, чтобы он остался с состоянием или без него. Она говорит, конечно, с состоянием, и я видела, что она это говорит совершенно искренне и сознательно и много об этом думала.
Приехала ее сестра Ольга Дитерихс, очень вульгарная станционная барышня, но привлекательная и довольно шустренькая, кокетка большая, наступательная кокетка. Леву она возмутила. Меня она привлекает, и я делаю некоторые усилия, чтобы ей понравиться*.
* (Ольга Константиновна Дитерихс (1872-1951) в январе 1899 г. вышла замуж за Андрея Львовича Толстого, разошлась в 1904 г. После развода жила в имении Таптыково, у Чертковых в Англии, в Ясной Поляне, где помогала Толстому, отвечая на письма к нему иностранцев, и в Москве. С 1927 г.- член "Комитета по исполнению воли Л. Н. Толстого" (см. т. 81, с. 230-231), созданного В. Г. Чертковым совещательного органа по вопросам издания "Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого". В "Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого" опубликовано 17 писем его к Ольге Константиновне за 1898-1909 гг.)
У меня затеялись чтения с девушками и бабами. Два раза в неделю вечером они ко мне собираются в мастерскую, и я им читаю. Они мне напоминают об этом, и я рада, что у них есть на это спрос. Мы с Верой Толстой говорили о том, как хорошо бы пробить окно к женской половине деревенского населения, потому что она - самая дикая, а вместе с тем она воспитывает детей. Но я увидала, что невозможно им что-либо проповедовать в нашем положении: нельзя им говорить, чтобы они меньше наряжались, когда мы наряднее их и т. п.
30 июня.
Вчера папа, приехав от Чертковых, сказал то, что я все время чувствовала, но что старалась заглушить. Подъезжая верхом к Деменке, он встретил Владимира Григорьевича, катающего Галю в тележке, и говорит, что почувствовал к нему жалость и досаду на этих Дитерихсов, которые его заполонили. Я его попросила мне этого не говорить, чтобы не поддерживать моих нехороших чувств к ним, и потом мы взяли эти слова назад, решили, что наверное Черткову именно такая жена и нужна и что в ней, правда, очень много хорошего. Меня очень отталкивает ужасный тон Гали и Ольги, и меня немного Маня и Соня в этом поддерживают, придя в ужас от того, что Галя, по словам Ольги, "шикарно спела бравурную арию из "Периколы". Я думаю, что действительно, это не подобает порядочной женщине, но это очень невинно. Я себя виню в том, что меня могут оттолкнуть от человека разные слова, как "шикарно" и "роскошно", и безвкусный, претенциозный наряд, как на Ольге, и ее манера играть на фортепьяно, разбивая аккорды, и я стараюсь себя винить, а в них видеть хорошее. Это очень удается, особенно с Галей, которая действительно гораздо лучше меня. Ольга молода и ужасно вяла. Ничем не интересуется, как я ни стараюсь ее навести и отыскать ее конька. Ее даже совсем не радует, что она видает папа, и даже не слушает, когда он говорит. Ну, бог с ними.
Была у Сони Мамоновой с Маней Рачинской и с Мишей. Ездила для того, чтобы уничтожить ту тень, которая, может быть только на мой взгляд, легла между нами. Это очень удалось мне. Мне было очень хорошо с Соней, и хотя я чувствовала, что ей немного помешала в ее хозяйственных делах, но видела, что она искренно была мне рада. Хозяйничают они по-женски в хорошем смысле: входят в мелочи, все аккуратно, прислуга и рабочие хорошо и вовремя оплачены, хорошо накормлены, лошадки сытые. Все очень чисто и довольно скромно. Кучера нет, садовника нет, четыре лошади, которые и возят и работают. Совершенный контраст своим соседям - Осоргиным, у которых имение в тысячи десятин, дом трехэтажный, имение их захватило 10 деревень, которые у них в рабстве и за угодья им убирают хлеб, чинят дороги и т. п. Рабочие у них никогда вовремя не рассчитаны, ходят раз десять просить жалованье, и им то мукой, то еще чем-нибудь выплачивают. Постоянно берут штрафы. Кучер, то есть работник, который нас вез, рассказывал нам про это. Я его спросила:
- Что же, он хороший барин Осоргин?
- Да, он ничего, хороший, только грабит народ. Поймает с порубкой, или кто лыко содрал, так штраф сейчас. За лыко пять рублей берет.
- Что же, управляющий, верно?
- Нет, сам.
Они, Осоргины, считаются одними из самых примерных помещиков. Он - земский начальник, честный человек, женат на княжне Трубецкой, красавице, 5 человек детей, родители живы, все в прекрасных отношениях. Мы подъехали. Старуха покупала ягоды, торгуясь с ребятами. Лиза укладывала детей, отец приехал с обзора хозяйства, сын выбирал старшину - чего же лучше? Но меня ужас взял, когда я подумала, что могла бы попасть в такие условия. В сто раз лучше арестантские роты со вшивыми товарищами.
Хожу на покос. Работаю легко и с удовольствием. Вчера меня оторвали, потому что Ваня заболел и мама, очень испугавшись, послала за мной. Но, кажется, это пустяки, припадок желчной болезни.
Андрюша очень плох: совсем ошалел, бегает по деревне и, вероятно, у него завелась какая-нибудь история. Он очень охотно и много со мной говорит, но сути не рассказывает, только говорит, что ему трудно и тяжело. Я боюсь его оттолкнуть, если буду постоянно ему говорить нравоучения, тем более что он знает все, что я ему могу сказать. На днях я уезжала в Тулу, и когда я приехала, он мне сказал, что я очень ему была нужна, но не сказал зачем*.
* (В 1894-1896 гг. Андрей Львович был увлечен Акулиной Макаровой, крестьянской девушкой из деревни Ясная Поляна.
Поскольку Андрей Львович был очень молод, а посещения деревни всегда сопровождались выпивками,- Лев Николаевич был против увлечения сына и пытался на него воздействовать. См. т. 68, письмо № 195, т. 69, письмо № 155.)
Эти дни меньше думаю о Жене. Работаю и слишком жарко. А последнее время прошла через ужасный приступ тоски. Хорошо, что он не приехал. Вероятно, письмо, в котором Чертков его вызывал, пропало.
Я дошла до того, что думала, что если бы я могла воображать, что он был бы лучше со мной и ему было бы лучше, то я вышла бы замуж за него. И искала таких рассуждений, при которых выходило, что это было бы лучше. Но даже в эти сумасшедшие минуты я не могла этого себе сознательно сказать.
Надо с молодостью и желанием любви попрочнее расставаться и все силы употребить, чтобы с корнем это выскрести из себя.
9 августа. Москва.
Сегодня видела Евгения Ивановича в первый раз с весны. Я здесь уже больше недели с Левой, которого опять возила к Захарьину. Все время было беспокойное чувство, что он так близко и что мы друг к другу не можем пойти. Я и боялась, и хотела встретить его на улице, и несколько раз душа падала, когда встречался кто-нибудь похожий. Первые дни еще ничего было, я была занята Левой и докторами и написала папа, чтобы он не беспокоился, что все благополучно. Но потом вдруг я совсем испортилась. Меня так раздражало и волновало это новое, неясное и тяжелое отношение с ним, что я один целый вечер проплакала и промучилась как несчастная. И после этого как-то утром я проснулась от чувства ужаса, который охватил меня от вдруг нахлынувшего сознания, что эта цепь крепко ко мне прикована и что мне только минутами кажется, что я свободна. А как только хочешь поступать так, как будто свободна, то чувствуешь, что рабство это держит тебя и нет средств отделаться от него. Я уже отчаялась в том, чтобы стряхнуть с себя это. Это только напрасная потеря сил. Надо стараться хотя бы о том, чтобы это не мешало жить, Оно и не особенно мешает: оно отнимает силы и мысли, которые нужны на другое, но ничего не портит.
Встретиться было страшно. Он был у Чертковых на три дня - в Ясной не был - и мне без него тут было легче, но я решила непременно увидать его, во-первых, потому, что надеялась, что это поможет. Думала, что может быть это - fantome*, от которого ничего не останется, если его поближе рассмотреть, а во-вторых, потому, что мне было обидно, что он от меня бегал, точно увидать его было бы для меня так опасно.
* (призрак (франц.).)
Ну вот я и пошла утром в "Малый Посредник" за Марьей Васильевной, чтобы ее показать Флерову, который был у нас. Во-первых, идя, так волновалась, что сердце, как молоток, колотилось в груди. Я шла нарочно очень медленно, чтобы быть покойнее. Поша с хитрой улыбкой открыл мне дверь и сказал, что все в кухне пьют чай. Я прошла туда и, не видя его, стала здороваться с Екатериной Ивановной и другими. Потом подняла голову, увидала его, поздоровалась и спросила, хорошо ли он съездил? Он не сразу ответил, но потом довольно спокойным голосом сказал, что не очень, потому что мало видел папа.
Мне дали чаю. Я хотела поднять блюдце, но увидала, что не могу этого сделать, потому что рука так дрожит. Кое-что мы говорили с ним, но было неловко. Я совсем не разглядела его. У меня было чувство, когда я входила в кухню, как будто я выхожу на сцену, и, действительно, все это - комедия и очень мучительна. Если бы делать то, что хотелось, то кинулась бы к нему, обрадовалась бы и стала бы расспрашивать его про него и рассказывать про себя. Столько хочется узнать и столько рассказать.
Потом днем встретила его на улице. Мы с Машей едем на извозчике, она говорит: "Евгений Иванович". Он увидал нас, поклонился и улыбнулся. Потом Маша оглянулась и говорит: "Оглядывается". Через несколько времени я оглянулась, и он в то же время, но, увидав, что я обернулась, он опять поспешно отвернулся.
Мне стало спокойнее с тех пор, как я его видела. А то было смутно и неспокойно. Я уже думала о том, что надо клин клином вышибать, и даже мелькнула мне мысль: "Хоть бы он умер". Но первое - безнравственно, и я к таким средствам не буду прибегать, а второе как-то суеверно меня ужаснуло: а что как я это накличу?
И я удивилась, как может Маша это так часто и легко говорить по поводу Пети Раевского.
Ну, вот опять все про это! Как стыдно.
10 августа.
Коли бы не это, мне было бы очень хорошо шить. Все учусь, и всякий пройденный урок - большая радость. Последний урок был об отношении к людям. Последнее время, с год, меня стало часто мучить, что меня мало любят и ценят. Мне это бывало обидно, и я стала приглядываться к дурным сторонам людей, негодовала на них и думала: как могут любить людей, у которых такие недостатки, и почему меня, у которой их нет, не любят. Такое чувство особенно сильно было по отношению к Маше. Это было дурно, потому что это исходило из почти неосознанного, но очень сильного внутреннего чувства своего превосходства. Меня все это лето мучило, например, почему Чертковы считают Машу настолько лучше меня, и я старалась угадать, какими способами она их обманывает. И вдруг меня озарило - это очень смешно, что такие вещи вдруг приходят, как новости,- что это потому, что действительно я хуже ее. С тех пор мне стало очень легко, и с Машей стала гораздо дружнее. Это же распространилось и на всех других. Я стала видеть прелесть в том, чтобы находить в людях одно хорошее и игнорировать дурное. И только стоило стать на этот путь, чтобы с легкостью можно было продолжать его.
С Левой стало гораздо легче. Он совсем стал ребенок, капризный и раздражительный, а минутами старающийся быть добрым и терпеливым.
Сегодня я собиралась в Ясную, как вдруг влетела Лиза Олсуфьева, которая едет в Никольское, и зовет с собой. Мне хотелось в Ясную к папа и проститься с Чертковыми, но моим всем очень хотелось, чтобы я ехала в Никольское, и я Лизе уже обещала, так что я еду.
Чертков все болен лихорадкой, и поэтому они спешат уехать.
Сегодня я сделала глупость: послала Жене выписки из его дневника о Дрожжине, которые он меня просил, и написала ему, что если он хочет, пусть пришлет мне свой последний дневник и что я обещаю его не читать. Он это сделал и написал мне письмо более близкое, чем последнее, и я рада, и вместе с тем чувствую угрызения совести. Зачем? Зачем его трогать и подогревать то, что должно загаснуть.
22 августа.
Рождение мама, ей 50 лет. В зале Миша играет на балалайке, Сережа аккомпанирует. Гости: Соня - невестка, Маня Рачинская, Соня Мамонова, Маша и Варя пироговские. Я устала от двух дней полнейшего безделья с гостями (еще тут чех-доктор Маковицкий)*. Хочется побыть одной. Эти дни я чувствую очень высокое настроение.
* (Душан Петрович Маковицкий (1866-1921), словак, врач. В городе Жилине организовал издательство, выпускавшее сочинения Толстого на словацком языке. С осени 1904 г. до смерти Толстого был его домашним врачом и вел подробный дневник о жизни Толстого за эти годы. Выходит двумя томами "Литературного наследства" в издательстве "Наука" в 1979 г.)
Чувствую близость к богу и потому большую легкость в отношении к людям. Если бы я молилась заученными молитвами, то, наверное, в такие минуты становилась бы на молитву, клала бы поклоны и плакала.
Была у Олсуфьевых. Там было хорошо, потому что не спорила, и не стыдилась, и не скрывала своих взглядов и мнений. В первый раз могла спокойно проверить отношение Миши Олсуфьева ко мне: в нем много уважения, верной дружбы, но любви нет. С ним хорошо и легко.
От Олсуфьевых написала папа письмо, в котором рассказала, как только могла откровенно, про свое душевное состояние. Это меня очень сблизило с ним, и мы с ним давно так дружны не были. Одно мне это портит - это страх за то, чтобы Маша не мучилась ревностью. Но и ее папа очень любит, как и все. Она в очень хорошем душевном состоянии, нет никакого романа, и поэтому она может часто забывать себя. Она едет завтра в Москву к Леве.
14 ноября. Москва.
Сегодня свадьба Николая II. Несколько дней тому назад были похороны Александра III. Все говорят, что никогда так подло не старались выказать свою притворную печаль и никогда вся Россия не была так занята надгробными речами, статьями, трауром, церемониалами, как при смерти этого государя.
Мы все в Москве. Лева хиреет. Доктор посылал его за границу. Мы сначала не настояли, а теперь пропустили сезон. Сам он не хочет ехать. И мы не убеждены в том, что это ему нужно. Если болезнь его нервная, то скучать, как он скучал со мной в Париже, ему очень вредно.
Я тоже хвораю. Сильно страдала от камней в печени и сейчас слаба. Не знаю, что буду делать зиму. Ни к чему не тянет.
Женю видела раз на улице. Он тоже хворает, худой, бледный, и жалкий, и милый. Перед нашим приездом сюда папа написал ему, чтобы он мне больше не писал, так что внешний последний способ общения уничтожен*. К нам, вероятно, его тоже не будут пускать. Но внутренняя наша связь нисколько не нарушена, хотя нам вследствие многочисленных разговоров и переписки по поводу наших отношений не совсем ловко друг с другом. Привыкла ли я думать в том же направлении, как он, или это случайно, но удивительно, как совпадают мои мысли с его. Он гораздо умнее и сильнее меня, поэтому у него яснее и тверже выражено то, что во мне только промелькнет, но это в том же направлении. Например: меня всегда приводило в недоумение то, что папа так восхищается системой Генри Джорджа и готов ее пропагандировать. И когда я с Евгением Ивановичем говорила об Овсянникове, то он это самое сказал.
* (Толстой с дочерьми переехал в Москву из Ясной Поляны 7 ноября. 22 октября он писал из Ясной Поляны Попову в Москву: "О ваших письмах к Тане. Письма эти вызывают самые недобрые чувства в Софье Андреевне, неприятны мне, боюсь, что стеснительны и тяжелы для Тани. Не показывать их мне - неприятно, показывать, как будто исполняя обязанность, тоже неприятно. И самые письма ненатуральны. Если у вас есть дела до нас, то с ними вам удобнее обратиться ко всем более, чем к Тане" (т. 67, с. 254).)
С Овсянниками, кажется, ничего не выйдет. Да вообще из собственности ничего хорошего выйти не может. От дурного только и отродится дурное. Мужики взяли землю в аренду за 400 рублей, которые пойдут на общественные дела, так написано в условии. Но видно, что они этого не исполнят.
Рудаковским мужикам прощен долг в 800 рублей с тем, чтобы они в течение 20 лет отдавали бы ежегодно по 40 рублей какому-нибудь бедному семейству своей деревни. Они витиеватыми словами благодарили меня, поднесли сладкий пирог от Филиппова, но видно было, что они устроят все по-своему.
Как только прошел слух, что я денег не взяла за аренду и долг простила, так стали ко мне каждый день ходить с просьбами и жалобами вроде Бегичевки: то избу поправить, то корову купить, то невесту отдать, то еще что-нибудь, и с жалобами на то, что все делается несправедливо, за вино, что помогают тем, которые не нуждаются, а нуждающихся обижают и т. д.
Все это тяжело. Но все-таки легче, чем брать себе эти деньги. И я думаю, им полезно разбираться с этим.
15 ноября.
Я умею быть снисходительной только к самой себе. Со вчерашнего дня на меня одна мелочь нагнала грусть и недоброе чувство.
Вечером, только что мы с Машей пришли от Толстых, которые приехали вчера с курьерским, как пришел также папа. Он ходил к Стороженко. Он пришел бодрый, веселый, именинником и рассказал нам, что от Стороженок пошел в оба "Посредника", застал в Большом "Посреднике" много народу, и что проводил оттуда Екатерину Ивановну домой.
Мама на это сделала ядовитое замечание, Маша ушла к себе, не простившись, и я, очень холодно поцеловавшись, ушла спать.
Ночью я проснулась от тяжести на сердце и долго не могла спать. Сегодня Маша сказала мне, что тоже не спала, что все ее беспокоит, и мы отлично обе поняли, о чем каждая думала. Это в первый раз мне от этого было больно.
Бывало, что я замечала маленькую неестественность при упоминании, и меня удивило, что когда мы приехали, он пошел к ней на другой же день, но до сих пор я только про себя снисходительно улыбалась. Этот же раз мне стало обидно, досадно, и мне сразу захотелось оторвать свою душу от него, не быть с ним откровенной и не позволять ему судить о моих делах и вмешиваться в них.
И странно: чужая слабость точно дает мне право распускаться. Я стала думать о том, зачем я, как будто я это делаю только ради папа, лишаюсь хорошего друга и скучаю по нем. Сегодня особенно мне нужно было его дружбы и хотелось разбить эти неестественные отношения, которые у нас теперь. И кому, чем это может помешать?
Я Вере очень обрадовалась. Я ее не видала с июля. Это - единственный человек, с которым у меня ничего нет болезненного в отношениях.
© L-N-Tolstoy.ru 2010-2018
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://l-n-tolstoy.ru/ "Лев Николаевич Толстой"
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://l-n-tolstoy.ru/ "Лев Николаевич Толстой"